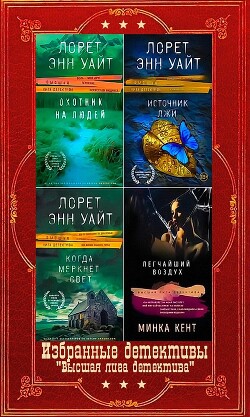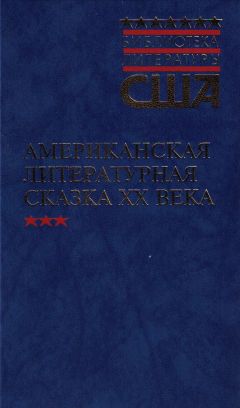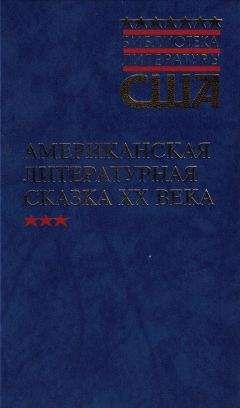происходило в данном контексте до этого события, и картографировать последствия для данного контекста после того, как событие произошло. И этим можно заниматься, не пытаясь создать нарратив, или, как бы я сказал, «нарративистское» (
narrativistic) изложение самого процесса изменений – то есть не рассказывая «истории» с началом, серединой и концом, из которой мы можем извлечь мораль или урок, чтобы избежать повторения такого процесса в будущем (конечно, если мы хотим, чтобы этот процесс не повторился).
Если мы хотим иметь историю Холокоста или его нарративистское изложение – значит, мы хотим, чтобы Холокост предстал перед нами знакомым событием, будучи наделен атрибутами или качествами того или иного жанра мифологического, религиозного или литературного дискурса. Значит, мы хотим раскрыть «сюжет», стоящий за этими событиями или скрывающийся в них. Это позволит нам относиться к этим событиям так, словно мы «узнали» в них историю определенного вида, будь то трагедия, комедия, роман, фарс, пастораль и т. д. Благодаря этому мы сможем дать им соответствующее наименование и отправить в архив для дальнейшего изучения. Это позволит наконец «понять» эти события – подтвердить, что они действительно произошли, и одновременно убедиться в том, что они больше не имеют для нас никакого значения, раз они произошли в «истории». Теперь это просто информация.
Этот процесс «одомашнивания», который сам Фридлендер считает неотъемлемой частью чисто научного подхода к изучению Холокоста, представляет опасность – если считать это опасностью, – которая таится прежде всего в нарративе или нарративистском изложении каких-либо событий. И тем не менее, поскольку повествование или нарративизация является формой искусства, она должна обладать силой остранять и раз-одомашнивать (dedomesticate). Или, используя термин, который сейчас не в почете, эта форма должна обладать способностью деконструировать образы реальности, которые она маняще протягивает нам, но при этом остраняет, изымает и представляет в незнакомом виде благодаря самому способу их изображения. Таким образом, благодаря своей способности одновременно остранять и одомашнивать события из нашего прошлого, которые мы ни можем ни отвергнуть, ни полностью принять как имевшие место в действительности, нарратив и нарративизация оказываются в состоянии сбить нас с толку. Смешивается правда и вымысел; то, что мы хотим подавить в нашем прошлом, и то, что постоянно возвращается к нам и требует признания в качестве того, что для нашего сознания остается одновременно в прошлом и в настоящем. Но если нам нужно найти способ сублимировать ощущение «прошлого, которое не покинет нас», может возникнуть необходимость одновременно нарративизировать и де-нарративизировать его.
Жан Лапланш считает, что мы имеем дело с Nachträglich 180, занимаясь постоянным переводом и пере-переводом, пока не найдем идиому, которая позволит сконструировать подходящий образ прошлого, чтобы нормально жить дальше. Такая работа по переводу является частью церемонии оправдания наших грехов, в совершении и сокрытии которых мы не можем признаться. В этом смысле масштабный труд историков и всех остальных, кто пишет, стирает и переписывает наше прошлое, помогает не столько запомнить, сколько отпустить прошлое, чтобы жить настоящим в ожидании будущего.
Это, конечно, в меньшей степени касается тех, кто изучает прошлое «исторически», чем тех, кто стремится «рассказать историю» о нем. Наррация, нарратив и нарративизация – опасные инструменты репрезентации прошлого таким, «каким оно было на самом деле». Истории могут выходить из-под контроля своих авторов и рассказывать о них больше, чем бы они сами хотели. Фридлендеру это хорошо известно. И, быть может, именно по этой причине спустя двадцать лет после того, как он заявил о желании иметь «стабильный нарратив» о Холокосте, он сам создал такое изложение этих событий, которое вовсе не является «историей» и едва ли что-то «объясняет».
Все, о чем я говорил выше, связано с двумя темами, которые необходимо затронуть, если мы действительно хотим ответить на вопрос: «Можно ли представить Холокост в форме нарратива?». Во-первых, это философская дискуссия о природе нарратива, рассматриваемого как своего рода «объяснение» изложенных в нем событий. Во-вторых, это исчезновение традиционных форм нарративизации в модернистском литературном письме, в частности в модернистском романе. Результатом долгой дискуссии о нарративе как форме объяснения в историологии, начатой еще Коллингвудом и Поппером в годы Второй мировой войны и продолженной в наши дни в работах Минка, Козеллека, Данто и Рикёра, стал вывод о том, что повествование мало что в состоянии объяснить, когда речь идет об изложении реальных, а не вымышленных событий. Как любил говорить Гемпель, исторические нарративы предлагают в лучшем случае второсортные, «поверхностные» и непрямые «объяснения», если они вообще что-либо «объясняют». Из этого следовал вывод, который, например, озвучил Поппер, что историки могут продолжать рассказывать истории о прошлом, поскольку история не может быть предметом подлинно научного анализа, и уж лучше «рассказ» о прошлом, чем вообще ничего. В свете такого вывода стремление к нарративистскому изложению – «стабильному нарративу» – такого сложного события, как Холокост, таит в себе опасность, поскольку оно открывает это событие для самых разных интерпретаций, которые может породить «вымысел».
Опасения Фридлендера по поводу эстетизации и фикционализации Холокоста посредством рассказа, например, как в фильме Кавани «Ночной портье», можно распространить на любую нарративистскую обработку в принципе. Так что стремление к «стабильному нарративу» о Холокосте, с помощью которого мы могли бы измерять искажения и отклонения в различных идеологических трактовках этого события и посвященных ему фикциональных нарративах, – это палка о двух концах. Стремиться к нарративу о Холокосте – значит стремиться к эстетизации и фикционализации события, моральное и политические значение которого столь велико, что не поддается художественной обработке.
Именно здесь модернистская революция в литературном письме и модернистский роман – в тех его вариантах, что были предложены Конрадом, Генри Джеймсом, Джойсом, Прустом, Кафкой, Звево, Вирджинией Вулф, Стайн и другими авторами – приобретают актуальность для нашего обсуждения. Ведь литературный модернизм среди прочего отбрасывает – как на практике, так и в теории – во-первых, эстетическую концепцию субстанции искусства, и, во-вторых, отождествление нарративного письма с реализмом и представление о том, что именно нарратив является лучшим способом «реалистической» репрезентации прошлого. (Здесь я отсылаю к дебатам между Лукачем, Адорно и Брехтом о природе «реализма» в литературном письме.) С отказом от эстетической идеологии искусства и отождествления нарративного письма с реализмом, модернистский роман также получает возможность отбросить «миметицизм», доминировавший в западных представлениях о поэзисе со времен Аристотеля. Согласно этим представлениям, искусство в первую очередь связано с удовольствием, а не с познанием, а поэзия и проза являются настолько различными порядками высказывания, что не могут быть объединены или слиты воедино в одних и тех же жанрах дискурса. Теперь, с отмежеванием искусства от эстетики, стало возможным рассматривать художественный вымысел как просто еще один