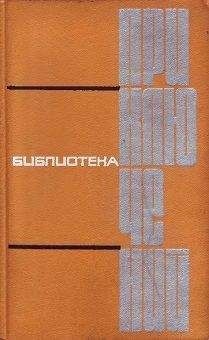(175)
Глава пятнадцатая
АДВОКАТЫ
Бейлис сидел в тюрьме уже три месяца, а еврейская общественность в Киеве все еще не понимала, что именно происходит. У людей не укладывалось в голове, что в двадцатом веке, в высших сферах могло быть принято решение юридически санкционировать легенду о ритуальном убийстве; многим из них одна эта возможность казалась диким анахронизмом даже для России; однако надвигающуюся опасность нельзя уже было игнорировать.
Перед тем как предпринять какие-либо шаги, первым консультантом по делу был призван выдающийся адвокат - криминалист, Оскар Оскарович Грузенберг. В сорок пять лет он уже был знаменит по целому ряду процессов, относящихся к евреям и к еврейскому вопросу в России; он защищал молодого еврея, Пинкаса Дашевского, покушавшегося на жизнь Крушевана (бессарабского подстрекателя к погромам); его роль также была ведущей в процессах, последовавших за кишиневскими погромами, за которые Крушеван тоже в большой мере был ответственен. Потом он защищал виленского еврея Блондеса, обвинявшегося в покушении на убийство, с целью якобы добыть христианскую кровь. "Жертвой" в данном случае была девушка - служанка. У Грузенберга тогда были все основания с удовлетворением вспоминать это дело: на первом процессе Блондес был осужден, Грузенберг подал апелляцию в сенат и добился распоряжения о повторном процессе в Вильне на котором Блондес был оправдан. Но все это происходило еще в 1903 г. - до "правосудия Щегловитова".
Грузенберг стал во главе группы адвокатов защищавших Бейлиса. По рассказам его друзей и знакомых, он был (176) человеком настолько же темпераментным, как и талантливым; он был властным в выражениях, резким почти до опрометчивости, и совершенно бесстрашным. Перекрестный допрос он вел блестяще, и даже рядовой человек, читавший протоколы допроса, мог научиться у него логике, следя, как упирающийся свидетель шаг за шагом загоняется им в угол, без надежды оттуда выбраться.
Приятно также наблюдать за поединком между Грузенбергом и судьей Болдыревым, и за тем, как последний, уже не зная, что ему отвечать, кричит: "не спорьте со мной"! Когда Болдырев перебивал доводы Грузенберга, заявляя: "противная сторона этого не утверждала, было сказано то-то и то-то" Грузенберг отказывался от своей аргументации, и говорил ледяным тоном: "конечно, я вам обязан верить больше чем своим ушам".
Грузенберг мог иметь только номинальный титул главы группы защитников Бейлиса, состоявшей из самых блестящих русских юристов, предложивших без малейшего колебания свой труд для этого дела. За исключением Грузенберга все были не евреи. В таком созвездии, такой адвокат как Карабчевский мог затмить Грузенберга, за ним, естественно, была более долгая карьера, он был пятнадцатью годами старше.
Карабчевский был "старым львом" русской адвокатуры - русские эмигранты в Америке называли его русским Кларенсом Даррау - весь его внешний облик и голос вызывали такое сравнение; он был высокий, величественный, его густые, как львиная грива волосы были зачесаны назад. Лондонский корреспондент "Таймса" видел в нем сходство с сэром Чарльзом Виндхам.
К Болдыреву Карабчевский относился с холодной пренебрежительностью; во время стычек между ними у Болдырева выработалась привычка заявлять: "Я считаю этот вопрос исчерпанным", но чаще всего Карабчевский "исчерпывал вопрос".
Беспристрастно говоря, самым выдающимся среди защитников был Василий Алексеевич Маклаков; он был родным братом Николая Маклакова - царского министра внутренних дел, лишенного каких-либо принципов, антисемита, работавшего рука в руку с Щегловитовым.
(177) Маклаков не только был блестящим юристом и адвокатом, но и очень талантливым человеком в области литературы и науки (после февральской революции 1917 г. он был назначен послом Временного Правительства во Францию).
Он не играл особой роли на бейлисовском процессе до самых последних дней, но тут, в заключительной своей речи, он затмил всех своих коллег. Будучи необыкновенно умным человеком, он полностью угадал, на каком, доступном для их понимания языке нужно обращаться к простым, необразованным людям. По окончании процесса, Короленко спросил нескольких присяжных: "кто из защищавших Бейлиса адвокатов произвел на вас самое сильное впечатление?" - они без всякого колебания поставили Маклакова на первое место.
Самым колоритным из защитников был и самый младший из них: А. С. Зарудный.* По своему характеру он был идеалист, часто вызывавший сравнение с Дон-Кихотом, с речами заходящими иногда за пределы дозволенного; он не делал ни малейшего усилия, чтобы скрыть свое невысокое мнение о Болдыреве, поправлял и оспаривал его на каждом шагу, совершенно не страшась резких выговоров судьи.
Болдырев: "Я попрошу вас г-н защитник не давать мне указаний". Или еще: "вы ставите на вид то, что мне и без того известно".
Зарудный: "Позвольте мне объяснить".
Болдырев: "Я знать не хочу, садитесь и молчите, я вам делаю выговор за ваше необдуманное выражение".
Зарудный: "Я не пристав"
Болдырев: "Если вы не пристав, то садитесь и молчите".
Зарудный: "Я тут защищаю не только еврейский народ, но и русское судопроизводство"
Болдырев: "Русское судопроизводство не нуждается в вашей защите".
Зарудный: "К несчастью мы вынуждены защищать его".
Болдырев: "Я вас попрошу так не выражаться, иначе вам придется покинуть зал суда...", и т.д. - все в таком же роде.
Григорович-Барский, менее активный в течение процесса и менее знаменитый, чем его коллеги, был, однако высоко уважаемым членом киевской адвокатуры. Он был ценным (178) консультантом, т.к. знал все местные условия, и одна из его речей, направленная против обращения Болдырева к присяжным с "исправленным" изложением фактов, была прекрасным образцом его юридической эрудиции.
2.
Несмотря на все наше желание быть беспристрастными, мы не можем принудить себя и поставить на одну доску обвинителей и их оппонентов. Уже не говоря о моральной стороне процесса, полная бессмысленность сотканного прокуратурой дела не могла не оттолкнуть сколько-нибудь заботящегося о своей репутации юриста.
Самым способным из состава обвинителей был депутат государственной Думы Замысловский. Его интерес в основном был не в правосудии, а в разжигании страстей черни; он был довольно искусным оратором, умевшим придавать плавность и некоторую правдоподобность своим лживым речам; принимая во внимание ничтожный материал, имевшийся у него в руках, надо признать что он с ним справлялся удовлетворительно, но было ясно, что он обращался к "своей публике", а не занимался сутью дела.
У второго внештатного обвинителя, Шмакова (коллекционера еврейских носов), было только одно достоинство: звериный антисемитизм. Он был старым человеком и производил впечатление преждевременно одряхлевшего. Это была смехотворная, бочкообразная фигура, с качающейся походкой, как у старого моряка. Антисемитизм составлял всю суть его жизни и совершенно сбил его с толку.
Шмаков усердно изучал какие-то странные антисемитские книги и брошюры; допрашивая свидетелей, он пересыпал свои допросы длинными тирадами, направленными против евреев и "мирового еврейства", читал целые лекции по древней и средневековой истории, составленные им по какому-то неизвестному списку неведомых авторов, начиная с библейских времен и до нашего времени.
Государственный прокурор Виппер, присланный из (179) Санкт-Петербурга Щегловитовым представлял правительство; он был беспредельно тщеславен, обращался до непристойности грубо со свидетелями защиты, и был аррогантен даже со своими коллегами.
Он либо был одержим бредовым антисемитизмом, либо симулировал его. Его заключительная речь пестрела такими фразами: как: "Хотя евреи легально и бесправны, на самом деле они владеют миром: в этом смысле библейское пророчество осуществилось в наше время; их положение по видимости трудное, но на самом деле мы живем под их игом".
Самая наружность Виппера отражала его тщеславие: худой, моложавый, с гордой повадкой, он был чрезвычайно элегантно одет; выходя из суда, он всегда надевал белые перчатки.
Не было надобности находиться за кулисами этой драмы, чтобы знать, что судья Болдырев всецело принадлежал к кучке обвинителей - чтение протокола процесса для этого совершенно достаточно. По внешнему виду рождественский дед, с бородой в стиле австрийского императора Франца Иосифа, он в начале процесса делал некоторое усилие вести себя пристойно, как подобает судье. Таким своим поведением он крайне огорчил обвинителей и вызвал некоторую признательность, смешанную с удивлением и недоверием у защиты. Однако, по мере того как шли дни, он стал снимать с себя маску мнимой справедливости, и его настоящий облик стал выявляться яснее;
в конце процесса, в своих наставлениях присяжным и в формулировках каждого вопроса в отдельности, он сделал все, от него зависящее, чтобы не допустить оправдательного приговора.