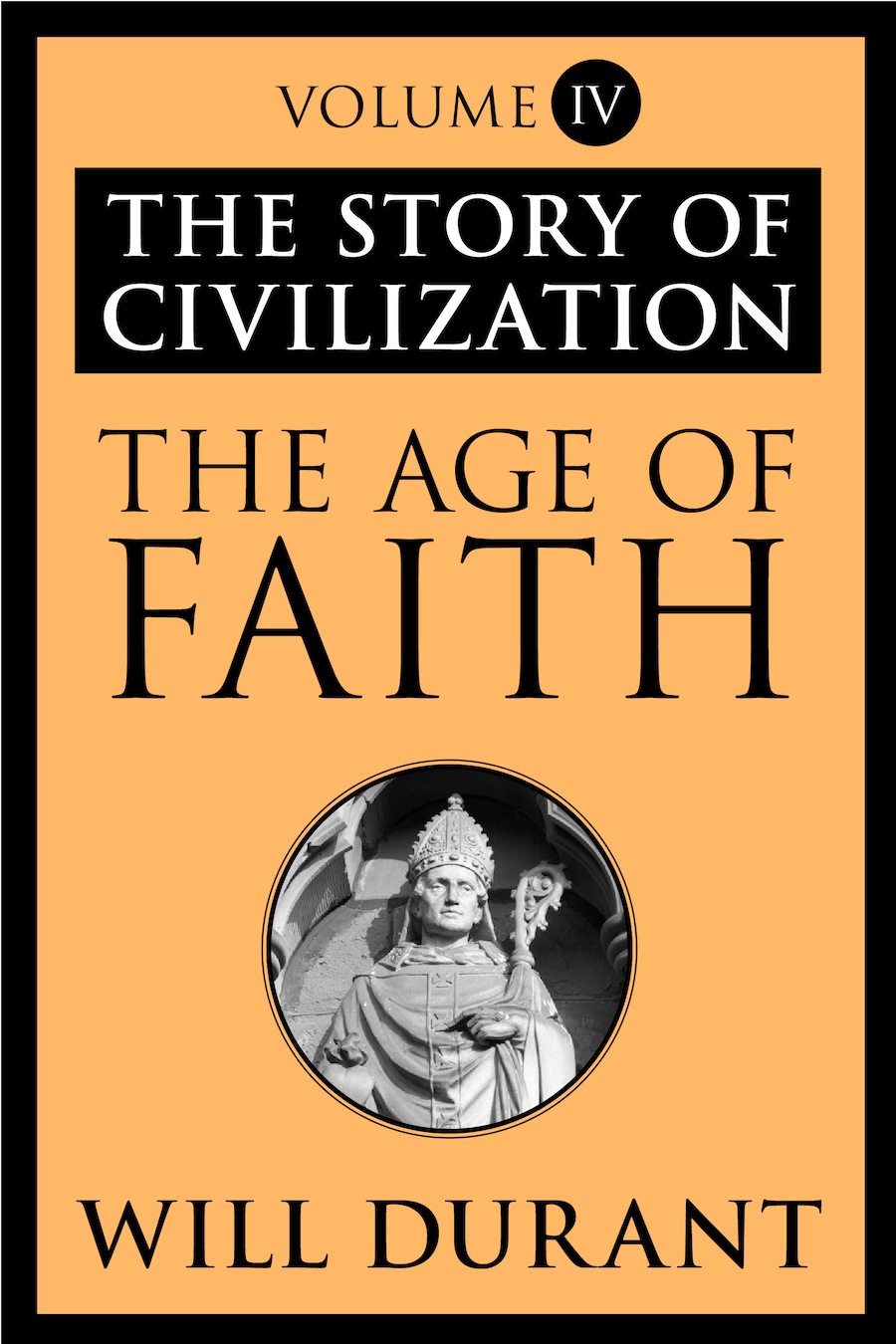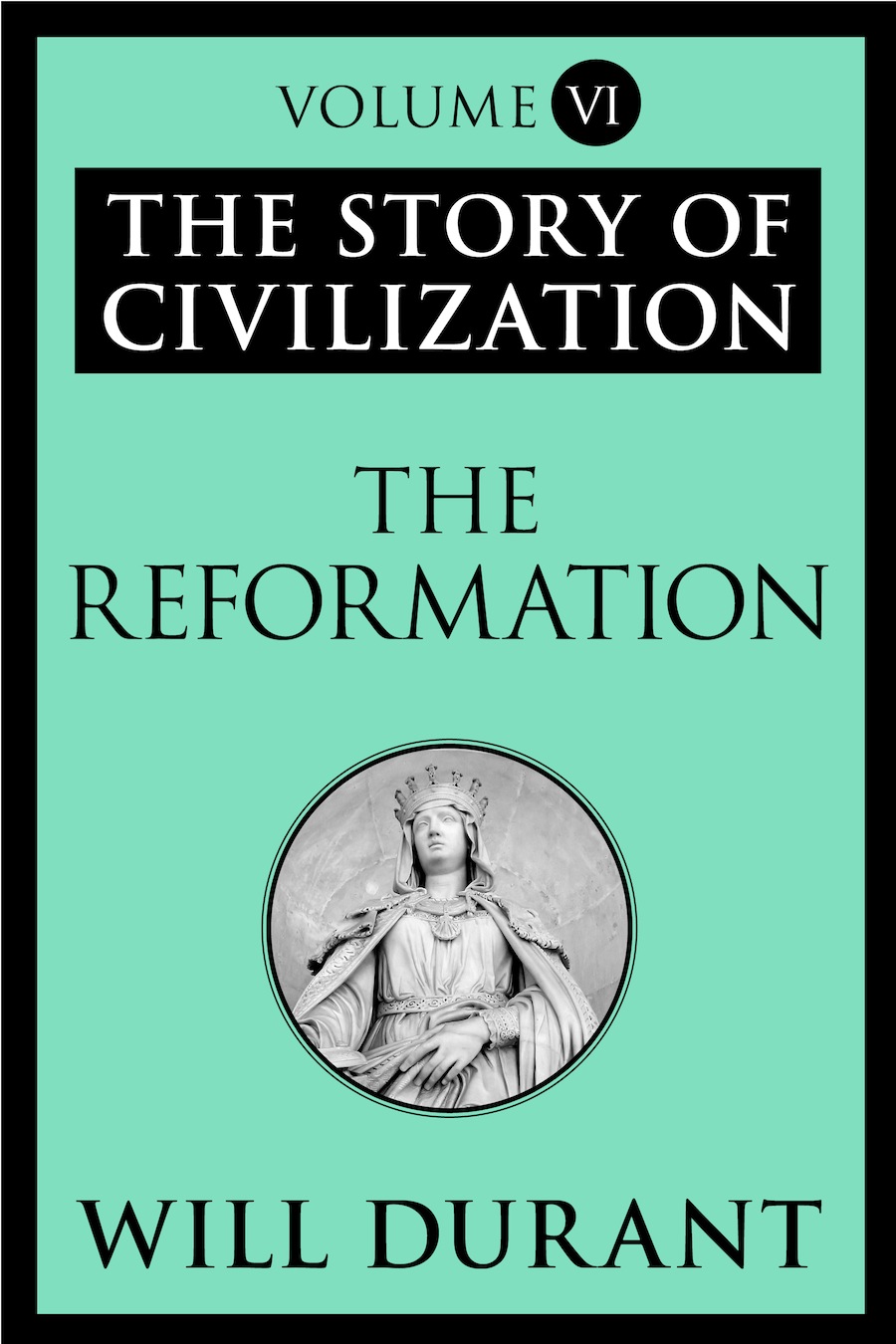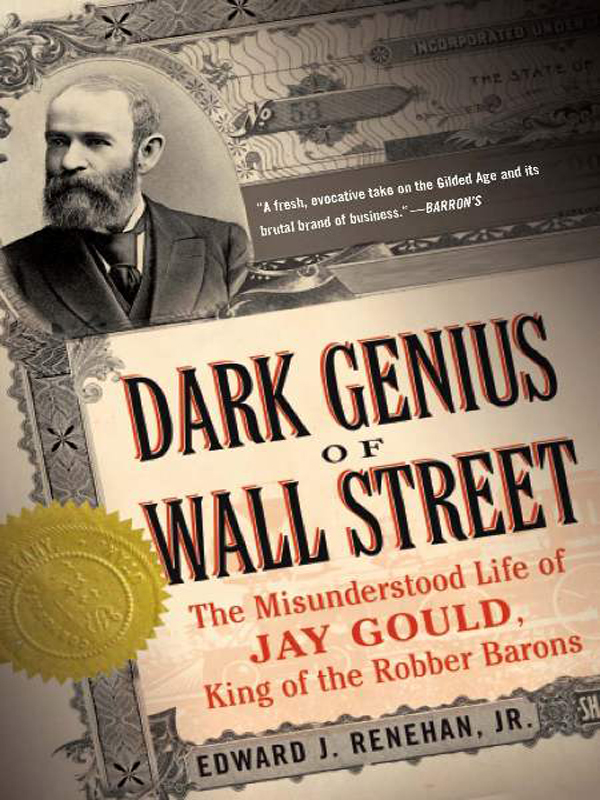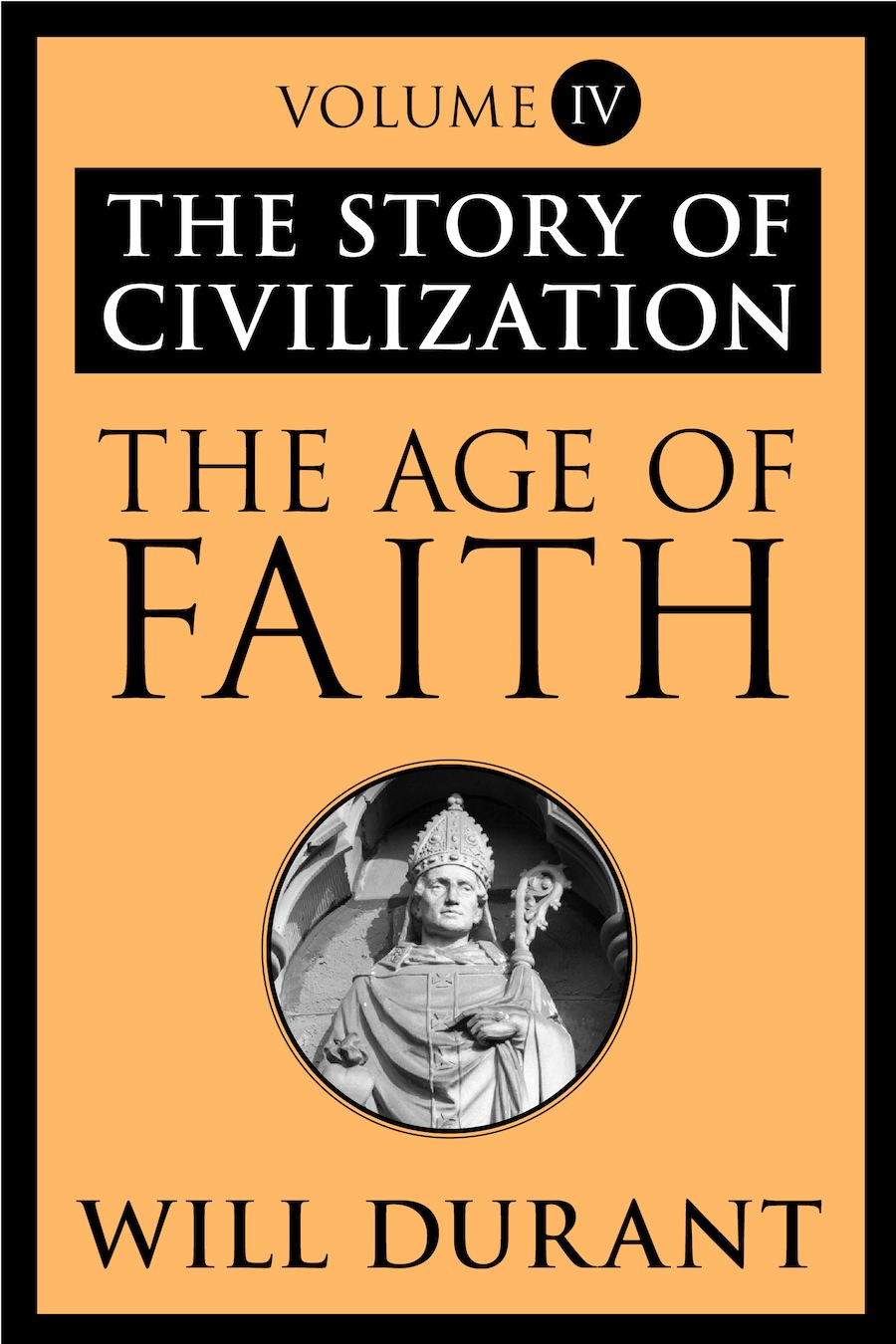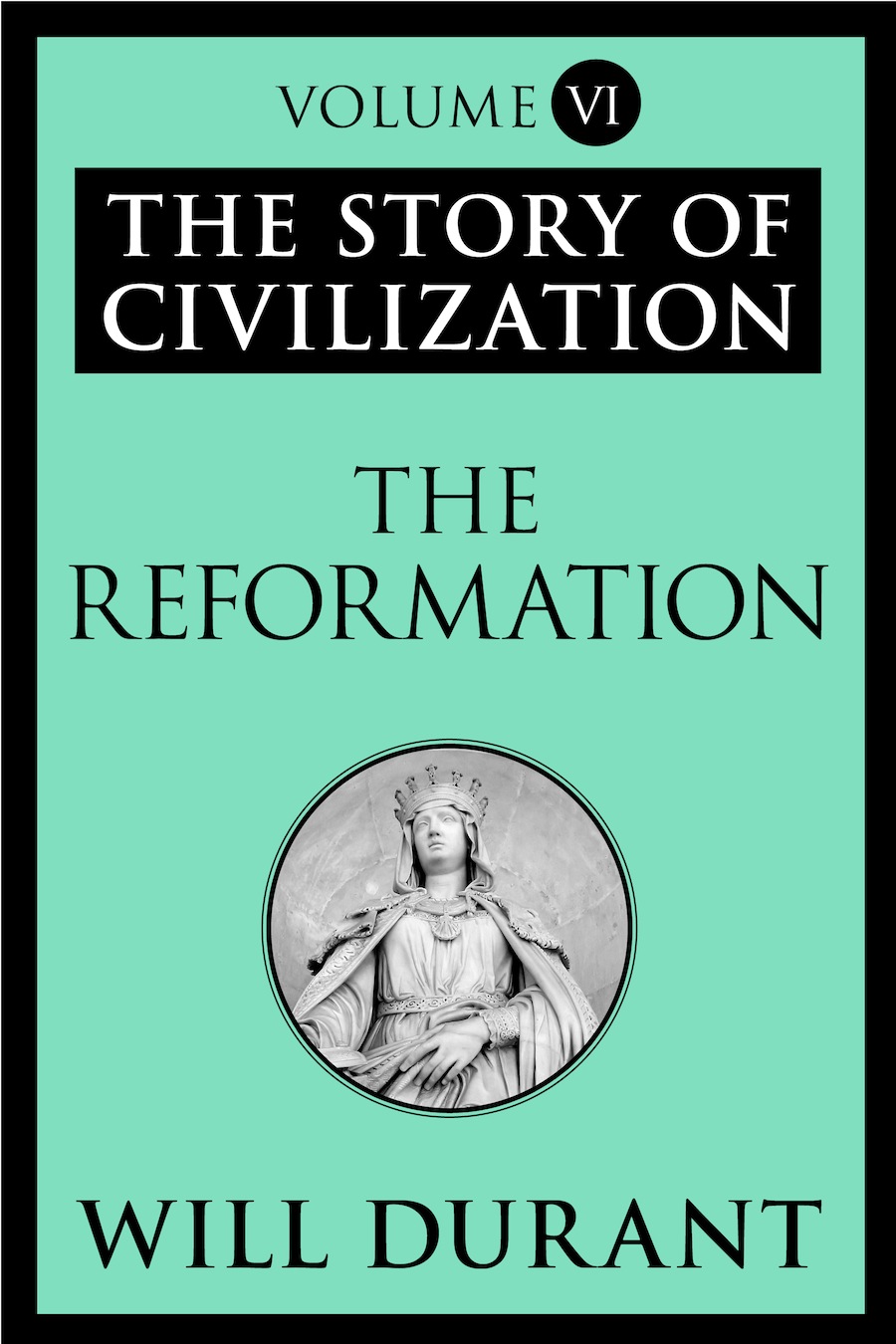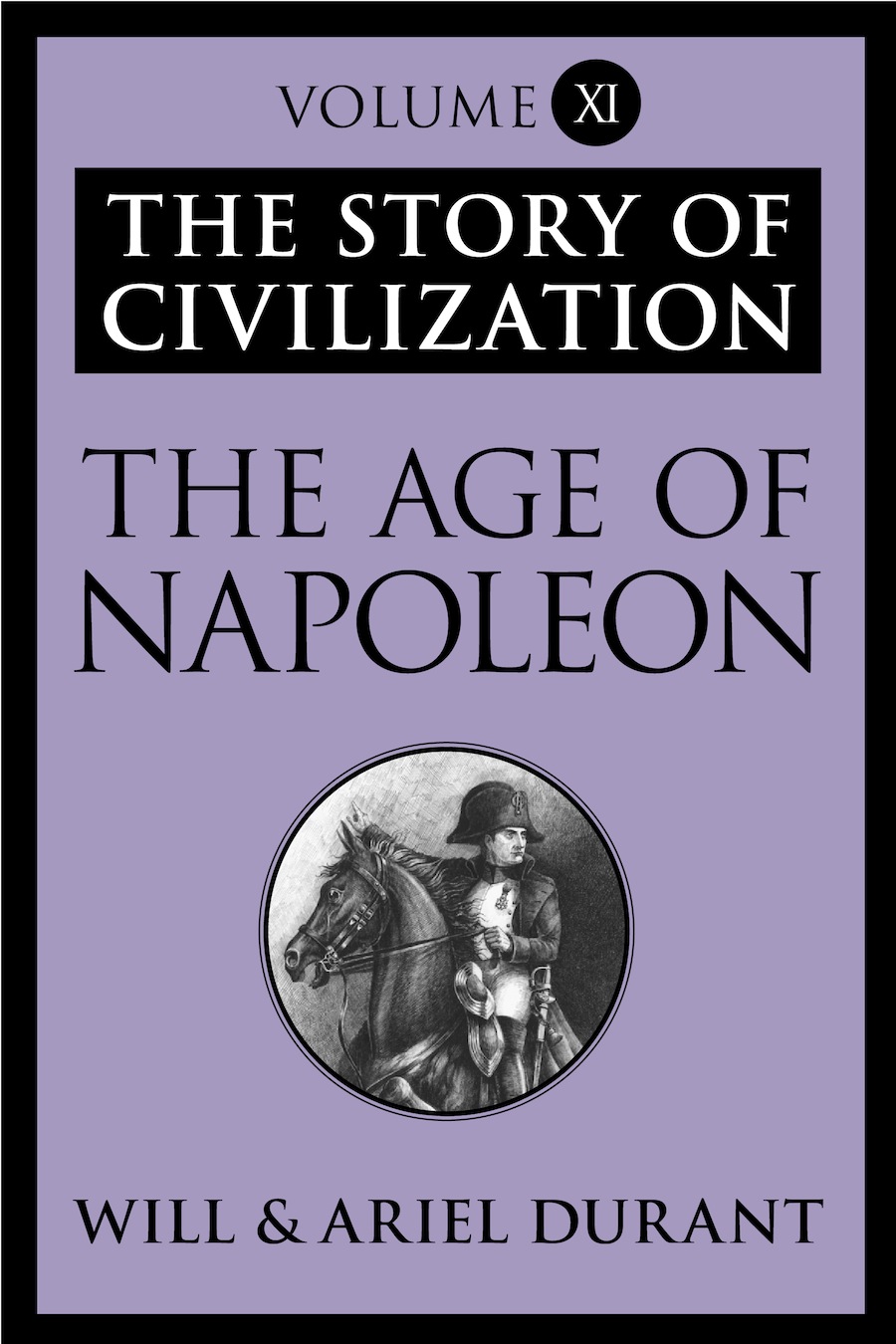через ручей ребенка; он спросил, почему он такой тяжелый, и ребенок ответил, что на нем вес всего мира; благополучно переправившись, ребенок поблагодарил его, сказал: «Я Иисус Христос», и исчез; а посох Кристофера, который он воткнул в песок, вдруг расцвел цветами.3 А кем был британский Святой Георгий? В окрестностях Силенума, в Ливии, дракон ежегодно получал в пищу живого юношу или девицу, выбранных по жребию, в качестве платы за то, чтобы не отравлять деревню своим дыханием. Однажды жребий пал на девственную дочь царя. Когда наступил сужденный день, она пошла к пруду, где обитал дракон. Там ее увидел Святой Георгий и спросил, почему она плачет. «Юноша, — сказала она, — я верю, что у тебя великое и благородное сердце, но поспеши покинуть меня». Он отказался и побудил ее ответить на его вопрос. «Ничего не бойся, — сказал он ей, — ибо я помогу тебе во имя Иисуса Христа». В этот момент из воды вынырнуло чудовище. Джордж осенил себя крестным знамением, порекомендовал себя Христу, зарядил и вонзил свое копье в чудовище. Затем он велел деве накинуть пояс на шею раненого дракона; она так и сделала, и чудовище, поддавшись, как всякий галант, столь сильному обаянию, вечно послушно следовало за ней. Эти и другие прелестные истории были собраны около 1290 года в знаменитую книгу Якопо де Ворагине, архиепископа Генуи; каждый день в году он рассказывал историю назначенного ему святого и назвал свою книгу Legenda sanctorum — «Чтения о святых». Сборник Якопо пришелся по душе средневековым читателям, которые назвали его Legenda aurea, «Золотая легенда». Церковь рекомендовала не верить в некоторые из этих историй,4 Но люди любили и принимали их все, и, возможно, были не более обмануты в жизни, чем простые люди, поглощающие популярную фантастику наших дней.
Слава средневековой латыни заключалась в ее стихах. Многое в ней было поэзией только по форме, поскольку все виды дидактического материала — история, легенда, математика, логика, теология, медицина — были снабжены ритмом и рифмой в качестве мнемонических пособий. Были и эпопеи, небольшие по объему и длинные, как, например, «Александрия» Вальтера Шатильонского (1176), которая сегодня кажется нам такой же скучной, как «Потерянный рай». Были и поэтические споры — между телом и душой, смертью и человеком, милосердием и истиной, деревенщиной и клириком, мужчиной и женщиной, вином и водой, вином и пивом, розой и фиалкой, бедным студентом и сытым священником, даже между Еленой и Ганимедом по поводу соперничества достоинств гетеросексуальной и гомосексуальной любви.5 Ничто человеческое не было чуждо средневековой поэзии.
Классическая зависимость от количества гласных как мерила метра была отброшена с V века, и средневековый латинский стих, возникший скорее из народного чувства, чем из ученого искусства, обрел новую поэзию, основанную на ударении, ритме и рифме. Такие формы существовали у римлян еще до того, как к ним пришли греческие метры, и тайно пережили тысячу лет классического стиля. Классические формы — гекзаметр, элегия, сапфический стих — сохранялись на протяжении всего Средневековья, но латинский мир устал от них; они казались не приспособленными к настроениям благочестия, нежности, деликатности и молитвы, которые распространяло христианство. Появились более простые ритмы, короткие строки ямбических стоп, которые могли передать практически любую эмоцию — от биения сердца до шагов солдат, идущих на войну.
Откуда рифма пришла в западное христианство, никто не знает, но многие догадываются. Она использовалась в нескольких языческих поэмах, например, у Энния, Цицерона, Апулея; изредка в еврейской и сирийской поэзии; спорадически в латинской поэзии пятого века; обильно в арабских стихах уже в шестом веке. Возможно, мусульманская страсть к рифме повлияла на христиан, соприкоснувшихся с исламом; избыток рифм, срединных и конечных, в средневековом латинском стихе напоминает о таком же избытке в арабской поэзии. В любом случае новые формы породили целый новый корпус латинской поэзии, совершенно не похожей на классические типы, поражающей изобилием и небывалым совершенством. Вот, например, Петр Дамиан (1007-72), аскет-реформатор, уподобляющий призыв Христа призыву любовника к служанке:
Quis est hic qui pulsat ad ostium? noctis rumperis somnium? Я произношу: «O virginum pulcherimma, Сестра, конюх, великолепная гемма. Cito, surgens aperi, dulcissima. Ego sum summi regis filius, primus et novissimus; qui de caelis in has veni tenebras, освободить пленных животных: passus mortem et multas iniurias». Mox ego dereliqui lectulum, cucurri ad pessulum: ut dilecto tota domus pateat, и я вижу все в полном объеме quern videre maxime desiderat. At ille iam inde transierat; ostium reliquerat. Quid ergo, miserrima, quid facerem? Lacrymando sum secuta iuvenem manus cuius plasmaverunt hominem… Кто это стучится в мою дверь? Не разрушишь ли ты мой ночной сон? Он зовет меня: «О прекраснейшая из дев! Сестра, дружище, драгоценный камень! Быстрее! Поднимайся! Открывай, милая! Я сын самого высокого короля, Его первый и младший сын, Кто с небес пришел сюда тьма Освободить души пленников; Смерть постигла меня, и много ран». Я быстро покинул свой диван, Подбежал к порогу, Чтобы