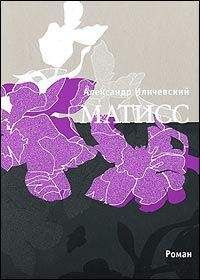Ведомый честолюбием и мелочными эмоциями мщения, новый император Рима тем не менее не потерял здравого смысла. На монетах, отчеканенных в ранний период своего правления, он прибегает к языку примирения и успокоения: «SECURITAS Р R» — безопасность и избавление римского народа от забот.[192] У нас нет причин подозревать иронию. Дион Кассий упоминает о «многих воздержанных актах, имеющих целью умиротворить народ».[193]
За успехом — спокойствие и невозмутимость. «На собственных врагов зла не держал совсем, а угождал толпе», — сообщает Плутарх.[194] Подобное отношение представляет разительный контраст с безжалостной мстительностью Гальбы. Осведомленный при восхождении на трон о претензии Вителлия на власть (которую, как мы видели, можно проследить, по крайней мере к началу года, когда германские солдаты отказались приносить ежегодную присягу на верность), Отон со всей очевидностью стремился добиться всеобщего согласия в Риме и, глядя в будущее, поддержки легионов по всей империи. Он призвал на помощь покровительство Августа, Ливии и Клавдия, чтобы обеспечить свой режим божественной защитой и легитимностью, которая даже сейчас принадлежала исключительно роду Юлиев-Клавдиев.[195] Желая распространить свое влияние на армии Востока, он вновь назначил брата Веспасиана, Флавия Сабина, на должность префекта города, с которой его снял Гальба. Присматриваясь к северным провинциям, он утвердил мартовское консульство для Вергиния Руфа, бывшего командующего рейнскими легионами. Это осторожное подхалимство, похоже, не завоевало сердца и умы в Германии.
В самом Риме Отон добился большего успеха, укрепив свою политическую базу тем, что перетянул на свою сторону сторонников убитого предшественника. Среди высокопоставленных перебежчиков был прославленный военачальник и ярый гальбанец Марий Цельс. Пощадив его, Отон не только получил первоклассного командира, но и прослыл на всю империю как милосердный правитель — качество, которое высоко ценили последующие императоры. Великодушным жестом, резко контрастировавшим со скупостью Гальбы, Отон вернул конфискованную собственность жертвам Нерона в случаях, когда возмещение ущерба было возможным.
Эта программа, политически дальновидная, носила соответствующий политический аспект. В отличие от Гая Калигулы Отону не требовалось обучение императорскому достоинству. «Между тем Отон, против всеобщего ожидания, не предавался ни утехам, ни праздности», — свидетельствует Тацит. «Отказавшись от любовных похождений и скрыв на время свое распутство, он всеми силами старался укрепить императорскую власть».[196] Для Тацита всегда найдется ложка дегтя. Подобная политика далеко не обнадежила римский нобилитет: «Правда, такое поведение внушало еще больший ужас, ибо все понимали, что доблести эти притворны и что его дурные страсти, едва им снова дадут волю, окажутся страшнее, чем раньше». Возможно, это так. Но, учитывая скорость, с которой правление Отона вступило в полосу бедствий, у императора не было возможности вернуться к своим прежним порокам.
На первый взгляд поведение Отона в начале его принципата служит прямым опровержением заверению Тацита: «Отон понимал также, что власть, захваченную преступлением, нельзя удержать, внезапно вернувшись к умеренности».[197] По указу сената император успокоил по крайней мере одну тень прошлого: он отдал распоряжение восстановить сохранившиеся статуи Поппеи. (Это подтверждает мнение о любви Отона к Поппее и ту версию событий, в которой Нерон отнял жену у Отона, который отнюдь не был сводником.)
Такое объяснение имеет дополнительное преимущество в том, что оправдывает гнев Отона против своего бывшего друга и снимает с него часть вины за месть. Отон не раскаялся в своей связи с режимом Нерона, поскольку его лояльность прежде всего носила прагматичный характер. Письмо, которое он написал Тигеллину с приказом лишить себя жизни, приносило бывшего префекта претория Нерона, ненавидимого всеми, в жертву практической целесообразности и было результатом широкой волны народных требований.
Придя к власти неконституционным путем, Отон тем не менее очень щепетильно относился к римской процессуальной практике. Хотя вместе со своим братом, Сальвием Тицианом, он на два первых месяца сменил Гальбу и Виния на посту консулов, впоследствии он в основном сохранил назначения на эту должность, сделанные до него Нероном и Гальбой. В результате, согласно Плутарху, «…словно бы улыбающийся лик нового правителя ободрил первых и самых видных граждан, сперва дрожавших от ужаса, точно не человек, но какая-то Пэна или демон возмездия обрушился внезапно на государство». Отон будет председательствовать в правительстве, где царили улыбки.[198] Но угроза Вителлия была такова, что этих мер было недостаточно. Точно так же их было недостаточно, чтобы гарантировать императору спокойный сон. Дни заполняла тревога о Вителлии и германских легионах, а по ночам он видел во сне Гальбу, который возвращался к жизни, чтобы свергнуть молодого узурпатора. Отон боролся с этими снами искупительными жертвами, актами умиротворения, результат которых он не мог предсказать. Призрак Гальбы не давал ему спать. По утрам, еле живой от усталости и недосыпания, он плелся во дворец или храм. Затем, согласно предсказаниям, разразилась гроза. Светоний с удовольствием пересказывает эту цепочку знамений. Для автора, как и для читателя, это «слова, написанные на стене», предвестники несчастья.
Военные заслуги Отона не впечатляют. Но зрелом размышлении театр военных действий никак не подходил императору, более всего обеспокоенному мягкостью своей кожи и пригнанностью парика, который Светоний хвалит за правдоподобие и который на сохранившихся портретах напоминает не более чем вязаный чехол на чайник. Став императором только с целью самореализации, Отон не обладал ни опытом военных кампаний, ни связью с армией, если не считать выплаты денежного содержания солдатам. В этом он также отходит от традиционного принципата предшественников. К несчастью для Отона, его неопытность и воинская непригодность помешали остановить надвигающуюся войну. За усилия императора в этой кампании Ювенал в своих «Сатирах» впоследствии наградит его нелестным сравнением с Клеопатрой.[199]
Вначале, по всей видимости, Отон сомневался в неизбежности войны. Когда он узнал о восстании Вителлия, то ответил, по словам Светония, «предложением сенату отправить к ним посольство с известием, что правитель уже избран и чтобы они хранили покой и согласие». Как и следовало ожидать, этот шаг не имел успеха. Тогда Отон вступил в переписку с Вителлием, в которой выразил желание откупиться от претендента на престол и договориться о разделе власти: «…через гонцов предложил Вителлию стать его соправителем и зятем». «Вителлий делал подобные же предложения Отону, — пишет Тацит. — Сначала они обменивались любезностями, причем каждый прибегал к глупым и недостойным уловкам, стараясь обмануть соперника, но вскоре начали перебраниваться и упрекать друг друга — в обоих случаях с полным основанием — в подлостях и преступлениях». При этом главным обвинением с обеих сторон была неспособность править Римом. В марте, не имея видимой альтернативы и помня, что задержка ускорила падение Нерона, Отон выступил из Рима с намерением сразиться с Вителлием в северной Италии.[200]
Светоний уделяет меньше места недолгим боевым действиям, в ходе которых Отон был побежден (хотя это главное событие его принципата), чем последствиям этого поражения. В его повествовании они носят обыденный характер, как если бы знамения, предвещающие гибель Отона, делали дальнейшие объяснения излишними. Отбытие императора было проклято вдвойне: он отправился в путь, когда священные щиты были вынесены из храма Марса, в дни скорби, начинавшие праздник Великой Матери богов. И то и другое предвещало дурное. К неблагоприятному религиозному прогнозу добавилось метеорологическое затруднение — разлив Тибра. Путь из Рима, который вел через Марсово поле и дальше по Фламиниевой дороге, оказался прегражденным обвалом зданий: поднявшаяся на небывалую высоту река вышла из берегов, затопив не только лежащие в долине беднейшие районы, но и места, считавшиеся недоступными для наводнений. Тацит и Плутарх добавляют к этому слухи, будто бы «стоявшая на острове посреди реки, обращенная на запад статуя Юлия Цезаря повернулась лицом к востоку», а также неожиданный пугающий феномен: «На Капитолии статуя Победы, стоящая на колеснице, запряженной парой коней, выронила из рук вожжи, словно не в силах удерживать их дольше».[201] В Этрурии, древней родине рода Отонов, вдруг заговорил бык, и это было принято за несомненное предвестие опасности.