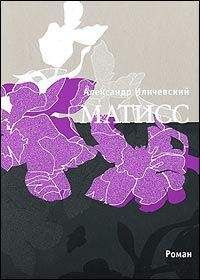По словам Светония, «…больше всего отличался он обжорством и жестокостью», а «наказывать и казнить кого угодно и за что угодно было для него наслаждением». Автор приводит примеры, но не называет имен и почти не сообщает подробностей, поэтому такие свидетельства невозможно проверить. Несмотря на безнравственное предположение, что Вителлий уморил свою мать голодом, чтобы исполнилось мелкое предсказание (даже не прорицание оракула): «власть его лишь тогда будет твердой и долгой, если он переживет своих родителей», — его можно упрекнуть скорее в обжорстве, чем в жестокости, так как существует больше свидетельств в пользу первой слабости. Несомненно, он обладал склонностью к бестактности и грубости высказываний, а также, до известной степени, к жестокости. Его презрительное отношение к скромной гробнице Отона — маленький мавзолей для маленького человека — не вызвало расположения современников и продолжает вызывать неприязнь нынешних читателей. То же самое касается бестактного замечания на поле битвы с Отоном, над которым стоял тошнотворный запах гниющих, непогребенных трупов: «Хорошо пахнет труп врага, а еще лучше — гражданина!» Подобные оплошности, вероятно, занимали его меньше, чем пристрастие, о котором говорит Дион Кассий: роскошь и распущенность. Его бездумность приняла форму расточительности, неосмотрительной в условиях опустошения римской казны после года гражданской войны.
По причинам, которые не дошли до нас, Вителлий был первым римским императором, отклонившим награждение сенатом титулом цезаря и «Августа». (Его отказ распространялся только на титулы и не затрагивал полноты власти. В действительности почти одновременно этот обрюзгший чревоугодник присвоил себе бессрочное консульство. Отказ от титулов был не больше чем данью созданной Августом системе.) Называя себя «императором», он по общей просьбе с готовностью принял титул «Германик», ранее присуждаемый сенатом. Им его наградила армия, сделавшая Вителлия верховным правителем, — легионы Верхней и Нижней Германии.
Несмотря на то что Вителлия последовательно порочила пропаганда Флавиев, он не пользовался особым расположением среди злодеев императорского Рима. Виной тому была его праздность. Тацит утверждает, что «принцепс радовался тому, что может наслаждаться, пока есть время, о будущем старался не думать».[206] Это была безобидная черта, если не считать того, что она принадлежала правителю самой могущественной империи мира в период опасности и неуверенности, для которой необходим был второй Август или, по крайней мере, хладнокровный бюрократ типа Тиберия. По словам Тацита, «дело заключалось не только в его природной глупости и слабости»[207], политической умеренности и абсолютном невежестве в военных делах — особенностях, удивительно напоминавших об Отоне. Более всего Вителлию мешал недостаток, который Светоний называет «бездонной глоткой»: он усердно набивал живот, вместо того чтобы восстанавливать римскую казну, армейскую дисциплину и моральное состояние сената, а вдобавок не слишком старался создать широкую политическую основу для своего правления. Дион Кассий утверждает, что он осушил казну на 900 миллионов сестерциев — непомерно большая сумма в период народных волнений, целиком потраченная на пиры. (Серебряное блюдо, настолько огромное, что для его изготовления понадобилось возводить особую печь на открытом воздухе, по некоторым сообщениям, стоило миллион сестерциев.)
По римским стандартам, Вителлий был высоким человеком. Это было его единственным выдающимся качеством. Он имел красное от постоянного пьянства лицо, на теле выпирал, словно нарост, выпуклый живот. Вителлий страдал хромотой, но не из-за чрезмерной полноты, а вследствие травмы бедра, полученной в состязании колесниц с императором Гаем. Трудно распознать в круглом безразличном лице его портрета восхитительного мальчика, который так прельщал и восхищал стареющего Тиберия, что всю жизнь сохранил позорное прозвище Спинтрия[208], которое говорит само за себя. У Вителлия не могло быть счастливой юности, поскольку она была «запятнана всеми пороками», говоря словами Светония. Вероятно, ответственность за это лежит на его честолюбивом отце: несомненно, Вителлий Старший, по имени Луций, получил наибольшую выгоду от пребывания сына на Капри. (Луций Вителлий три раза был консулом при Клавдии, с которым, как и отец Отона, был тесно связан. Близость императора и сенатора была такова, что именно он вместе с Нарциссом сопровождал Клавдия при возвращении в Рим после получения новостей о «браке» Мессалины и Силия.) Дион Кассий отбрасывает семимесячный принципат Вителлия, говоря, что «все его правление было не чем иным, как чередой попоек и кутежей».[209] Это является отголоском упрека Тацита относительно бездумности жизни императора, подразумевающим также некий эскапизм, который римляне, свергнув Нерона, сочли недостойным принцепса. Не следует удивляться, что, проведя юность подобным образом, Вителлий предпочел предаться другим удовольствиям, а то, что он делал это в ущерб эффективности и дальновидности правления, явилось предзнаменованием провала.
Насильственная смерть Вителлия отмечена пафосом, отсутствующим во многих источниках. Подобно своим предшественникам, Гальбе и Отону, он добился в своей смерти мимолетного величия, которого был лишен при жизни. В последнюю минуту необязательные и малонадежные люди покинули и осмеяли своего императора, который в лучшие времена обладал всеми чертами добродушного бонвивана, за исключением способности отделять потворство своим слабостям от отвратительной неумеренности. Людское отступничество оказалось закономерностью в тот год конфликтов и вооруженной неопределенности, в то время как Рим пытался идти вперед в политическом вакууме, последовавшем за смертью Нерона. Когда солдаты силком поволокли Вителлия по улицам в убогом обличье, толпа насмехалась и глумилась над ним. Ее претензии не были политическими или даже экономическими. Объектом презрения стали его телесные недостатки. В этой интерлюдии, когда ставки были максимальными, простые римляне не вспоминали протесты предков, рассерженных, например, предложением царской короны Цезарю на празднестве луперкалий: убеждения сменились мальчишеским осмеянием. Толпа швыряла в Вителлия грязью и навозом. Она обзывала его «обжорой и поджигателем», смеялась над истерзанным телом. Напрасно этот человек, который почти ни на что не претендовал, с неуместной прямотой приписывая завоевание империи своей армии, умолял о пощаде: «Ведь я же был вашим императором!» Они отрубили ему голову, чем навсегда лишили возможности получать удовольствие от яств. Потом воины крюками поволокли его тело к Тибру, точно так же, как мясники или торговцы рыбой управляются со своим товаром, и это действо, несомненно, тоже сопровождалось непристойным смехом. Богиня Минерва, которую Вителлий избрал своей защитницей, отказалась вмешиваться путем знамений или препятствий для толпы, несмотря на то что в ее честь император создал Астрономический шедевр из тошнотворных «деликатесов»: в «Щит Минервы» входили такие ингредиенты, как фазаньи и павлиньи мозги, печень щуки, языки фламинго и молоки миног, причем каждый компонент этого блюда завозился из самых далеких уголков империи.[210]
В 1882 году отвратительное зрелище последних часов Вителлия вдохновило французского художника Жоржа Рошегросса, который позднее специализировался на широкомасштабных полотнах, изображающих сцены античной жестокости. Его вселяющая ужас картина «Народ волочит Вителлия по улицам Рима» имела такой успех, что он спустя два года перестроил композицию и завоевал престижную премию «При дю салон» картиной «Андромаха», где изобразил отрезанные головы, оголенные груди и потоки крови. Действие обеих картин, написанных в мрачных красках, разворачивается на лестнице, по которой беспорядочной грудой спускаются персонажи с напряженными лицами. Схваченная и связанная Андромаха отчаянно борется. Она показывает на ребенка, вероятно, Астианакса, своего сына от Гектора: она больше никогда его не увидит. В случае Вителлия борьба уже окончена. У него отнимают не ребенка, но саму жизнь, однако он не сопротивляется. Император крест-накрест связан веревками, словно неуклюжее жертвенное животное. Тога упала с плеч, шея и лицо покрыты пятнами крови. Покорный и несопротивляющийся, со страхом в глазах он ожидает неминуемой смерти. Ему под подбородок грубо уткнулось острие копья. Написанная в темных тонах, малопривлекательная картина Рошегросса отражает исчезнувшую надежду жертвы и анархию толпы, воспроизводя отображенные в источниках трагические события. «Вы камни, вы бесчувственней, чем камни! О римляне, жестокие сердца»[211], — упрекает Марулл толпу за предательство Помпея в шекспировском «Юлии Цезаре». То же самое происходит с Вителлием. Возможно, в пустых глазах императора тускло светит сожаление о том, что преданные ему войска когда-то отказались принять отречение от власти, которое было одним из здравых шагов в его коротком, бессмысленном принципате.