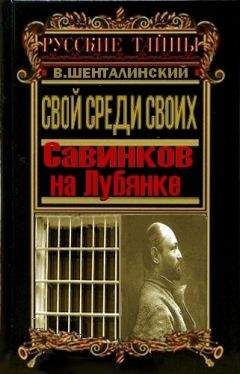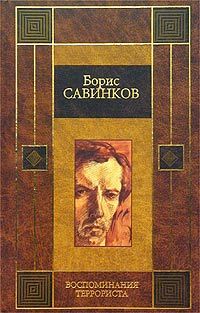“15 августа. На крестьянской телеге сложены чемоданы. Мы идем за ней следом. Ноги наши вымочены росой. Александр Аркадьевич двигается с трудом — он болен.
Сияет луна. Она сияет так ярко, что можно подумать, что это день, а не ночь, если бы не полная тишина. Только скрипят колеса…
Холодно. Мы жадно пьем свежий воздух — воздух России. Россия в нескольких шагах от нас, впереди.
— Не разговаривайте и не курите!..
На опушке нас окликают:
— Стой!
Польский дозор. Он отказывается нас пропустить. Мы настаиваем. Люди в черных шинелях начинают, видимо, колебаться. Борис Викторович почти приказывает, и мы проходим.
Фомичев вынимает часы. Без пяти минут полночь. Чемоданы сняты с телеги. Возница, русский, плохо соображает, в чем дело. Но он взволнован и желает нам счастья. Теперь мы в мокрых кустах. Перед нами залитая лунным светом поляна. Фомичев говорит:
— Сначала я перейду один. Андрей Павлович ждет меня на той стороне.
Он уходит. Он четко вырисовывается на белой поляне. Вот он ее пересек и скрылся. Через минуту вырастают две тени. Они идут прямо на нас.
— Андрей Павлович?.. — спрашивает Борис Викторович, близоруко вглядываясь вперед.
Двенадцать часов назад Андрей Павлович в Вильно расстался с нами. Он поехал проверить связь с Иваном Петровичем, красным командиром и членом нашей организации.
Мы берем в руки по чемодану и гуськом отправляемся в путь.
Из лесу выходит человек. Это Иван Петрович. Звенят шпоры, он отдает по-военному честь. Сзади кланяется кто-то еще.
— Друг Сергея, Новицкий, — представляет Андрей Павлович. — Он проводит нас до Москвы.
Мы выехали в Россию по настоянию Сергея Павловского. Он должен был приехать за нами в Париж. Но он был ранен при нападении на большевистский поезд и вместо себя прислал Андрея Павловича и Фомичева…
Я смотрю на Новицкого. Он похож на офицера. На молодом, почти безусом лице длинная клинышком борода [ярко-красного цвета]…[2]”.
Вот они — один за другим — начинают обступать Савинкова, окружают его плотным кольцом, чтобы конвоировать дальше. Иван Петрович — это Ян Петрович Крикман, сотрудник Минского ГПУ, который отвечал в операции за “окно” на границе. Роль Новицкого играет помощник начальника контрразведки ОГПУ Сергей Васильевич Пузицкий, подписавший постановление на арест Савинкова.
“Мы идем быстро, в полном молчании. За каждым кустом, может быть, прячется пограничник, из-за каждого дерева может щелкнуть винтовка. Вот налево зашевелилось что-то. Потом направо. И вдруг всюду — спереди, сзади и наверху — шумы, шорохи и тяжелое хлопанье крыльев. Звери и птицы…
Пролетела сова. Это третий предостерегающий знак: утром разбилось зеркало и сегодня пятница — дурной день.
Мы идем уже больше часа, но усталости нет. Мы идем то полями, то лесом. Граница вьется, и мы мало удаляемся от нее. Но вот в перелеске тарантас и подвода. Лошади крупные — “казенные”, говорит Иван Петрович. Андрей Павлович и Новицкий достают шинели и полотняные шлемы. Шлемы по форме напоминают германские каски. Борис Викторович, Александр Аркадьевич и Андрей Павлович переодеваются. Их сразу становится трудно узнать. Я шучу:
— Борис Викторович, вы похожи на Вильгельма Второго…
Борис Викторович, Новицкий и я размещаемся на тарантасе. Андрей Павлович правит. Маленького роста, широкоплечий и плотный, с круглым, заросшим щетиной лицом, в слишком длинной шинели, он имеет вид заправского кучера. Я смотрю на него и смеюсь.
До Минска нам предстоит сделать 35 верст.
Деревня. Лают собаки. Потом поля, перелески, опять поля, снова деревня. И опьяняющий воздух. А в голове одна мысль: поля — Россия, леса — Россия, деревни — тоже Россия. Мы счастливы — мы у себя.
Высоко над соснами вспыхнул красноватый огонь. Что это? Сигнал? Нет, это Марс. Но он сверкает, как никогда…
16 августа
На заре мы сделали привал в поле. В небе гаснут последние звезды. Фомичев объявляет со смехом:
— Буфет открыт, господа!
Он предлагает водки и колбасы. Мы браним его за то, что он забыл купить хлеба.
[Иван Петрович стоит в стороне. У него на губах насмешливая улыбка. Или это мне показалось?]
Лошади трогаются. Вот, наконец, и дома. Приехали. Минск. Борис Викторович и Александр Аркадьевич снимают шинели и шлемы [и отдают Ивану Петровичу свои револьверы]…”
Важный момент! На суде Савинков скажет об этом иначе: “Вы, может быть, подумаете, что я ехал с бомбой в кармане, а я ехал и револьвер свой, перейдя границу, бросил…” И дальше: “Я револьвер бросил на границе…”
Так бросил или отдал? Как все было на самом деле? Сегодня мы можем судить об этом лишь предположительно. В одной из промелькнувших в советской печати публикаций появилось еще одно свидетельство, взятое из каких-то неназванных конфиденциальных источников: будто бы при въезде в Минск между 6 и 7 часами утра Савинков резко изменился, замкнулся, стал более официальным и настороженным. Что случилось с Савинковым — почуял опасность или уже понял, что его ждет? Но так или иначе — разоружился…
“Мы останавливаемся у одного из домов на Советской. Здесь мы отдохнем и вечером уедем в Москву.
Поднимаясь по лестнице, я говорю:
— В этой квартире живет кто-нибудь из членов нашей организации?
— Да, — улыбаясь, отвечает Новицкий.
Мы звоним. Нам открывает высокий молодой человек в белой рубашке. У него бледное, очень суровое, хотя и с мелкими чертами лицо и холодные небольшие глаза. Я колеблюсь: такими за границей представляют себе комиссаров.
Молодой человек не в духе. Вероятно, он недоволен, что его разбудили так рано. Он идет доложить о нашем приходе. Кто он? Вестовой? Из передней мы проходим в столовую, большую комнату с выцветшими обоями. На столе остатки вчерашнего ужина. Мои товарищи направляются в кухню, чтобы почиститься и помыться.
Я чувствую смутное беспокойство. Я присаживаюсь к столу. Неожиданно открывается дверь. На пороге стоит человек огромного роста, почти великан. Он в военной форме, с приятным лицом. Он удивлен. Это, наверное, хозяин.[3] Я встаю и подаю ему руку.
Приносят завтрак. Александр Аркадьевич не ест ничего. Он ложится в этой же комнате на диван. Я несколько раз прошу хозяина сесть вместе с нами за стол. Но он отказывается. Он говорит:
— Визита дамы не ожидал. Позвольте, я сам буду прислуживать вам.
Я спрашиваю Андрея Павловича, почему с нами нет Фомичева.
— Он в гостинице, с Шешеней. Он вечером придет на вокзал.
Бывший адъютант Бориса Викторовича Шешеня служит теперь в Красной Армии. Он приехал в Минск из Москвы встретить нас. Он уже взял билеты на поезд. Андрей Павлович показывает мне их. Потом он поднимает рюмку [водки] и говорит:
— За ваше здоровье… Мне нужно быть в городе. До свидания.
За столом остаемся мы трое: Борис Викторович, Новицкий и я. “Вестовой” приносит яичницу. Вдруг с силой распахивается двойная дверь из передней:
— Ни с места! Вы арестованы!
Входят [восемь или девять] несколько человек. Они направляют револьверы и карабины на нас. Впереди военный, похожий на корсиканского бандита: черная борода, сверкающие черные глаза и два огромных маузера в руках. Тут же в комнате “вестовой”. Это он предал нас, мелькает у меня в голове, но в то же мгновенье я в толпе узнаю… Ивана Петровича! Новицкий сидит с невозмутимым лицом. Со стороны кухни появляются [вооруженные] люди. Обе группы так неподвижны, что кажется, что они восковые.
Первые слова произносит Борис Викторович:
— Чисто сделано!.. Разрешите продолжать завтрак?
Красноармейцы с красными звездами на рукавах выстраиваются вдоль стен. Несколько человек садятся за стол. Один, небольшого роста, с русою бородой, в шлеме, располагается на диване рядом с Александром Аркадьевичем. Он хохочет. Он хохочет так сильно, что содрогается все его тело и колени поднимаются вверх.
— Да, чисто сделано… Чисто сделано, — повторяет он. — Не удивительно: работали над этим полтора года!..
— Как жалко, что я не успел побриться… — говорит Борис Викторович.
— Ничего. Вы побреетесь в Москве, Борис Викторович… — замечает человек в черной рубашке, с бритым и круглым спокойным лицом. У него уверенный голос и мягкие жесты.
— Вы знаете мое имя и отчество? — удивляется Борис Викторович.
— Помилуйте! Кто же не знает их? — любезно отвечает он и предлагает нам пива.
Человек с русой бородою переходит с дивана за стол.
Он садится от меня справа. У него умное и подвижное лицо.
Я говорю:
— Нас было пятеро. Теперь нас трое. Нет Андрея Павловича и Фомичева.
— Понятно, — говорит Борис Викторович.
— Значит… все предали нас?
— Конечно.