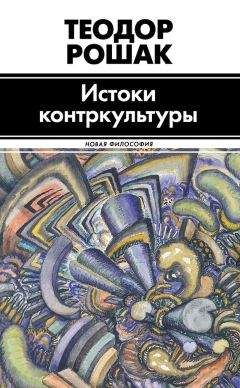Точно так же не было бы и женского движения, каким мы видим его сегодня, если бы не смелость женщин, восставших не только против патриархального порядка, но и против мужского шовинизма своих мужей и любовников. Когда я слышу, как женщины, включая экспертов с успешной карьерой, заявляют «Я не феминистка», мне становится интересно, как, по их мнению, они могли стать тем, что они есть, без феминисток прежних поколений? Многие ли хотели бы хоть день прожить жизнью женщины пятидесятых годов? Кто, по их мнению, расшатывал устои прежнего мира?
Не было бы и свободы для гомосексуалистов, если бы не те, кто поставил под сомнение половые стереотипы. Без среднего класса и белых союзников расовые и этнические освободительные движения остались бы отдельными выступлениями без глубокого понимания культурных и психологических корней расизма. Упразднение засилья белых вызвало серьезные волнения в господствующей культуре, когда к этому проекту присоединились белые, подтвердив этническое разнообразие как новый стандарт контркультуры. За этим явлением, как и за женским движением, лежит новое ощущение человеческой личности – настоящей, драгоценной и бесконечно интересной. «Слышу, поет Америка», – пророчески сказал однажды представитель контркультуры Уолт Уитмен. «Разные песни», что он приветствовал, никогда еще не звучали из стольких уст и так величественно, как в ту замечательную эпоху.
С самого начала контркультура, не доверяющая властям и преисполненная подозрений в отношении лидеров, страдала от отсутствия прочной организации. Наиболее близко к передаче своих ценностей прочной политической структуре диссидентство подошло в идеалистической, если не откровенно провальной, поддержке кандидатуры Макговерна от демократической партии в начале семидесятых. После неудачи этой попытки либералы обнаружили, что их позиции в национальном мейнстриме сильно подорваны: один за другим традиционно демократические избирательные округа переходили в лагерь консерваторов. Движение, которое не может найти способ оживить и использовать переходящие к нему организации, даже если это организации с такими недостатками, как наша партийно-политическая система, не может быть лидирующим.
Но контркультура допустила еще более серьезную ошибку. Она сильно недооценила стабильность и ресурсы корпоративного истеблишмента, высшего средоточия власти промышленного общества. В американской политике говорят деньги. Они могут купить и мозги, и организационный талант. При всех убийственных разоблачениях военно-промышленного комплекса корпоративная система пережила свою оппозицию и нанесла ответный удар с ошеломляющей эффективностью. Во-первых, перемещение военных расходов на юг США дало военно-деловым кругам неожиданного союзника: христиан-евангелистов. Инвестиции в южные штаты делались в расчете на рабочую силу, не знающую профсоюзов, что тоже обеспечило голоса на выборах и политическое влияние. Старые церкви, оборудованные всем необходимым для телепроповедей, отвечали за кадры, необходимую организацию и ревностное желание превратить южные штаты в бастион консерваторов. В результате либералам потребовалось вложить еще больше ресурсов для защиты основных гражданских свобод от благочестивого «социального порядка», склонявшегося к отмене отделения церкви от государства. Кто в ставших поворотными шестидесятых мог предвидеть, что к восьмидесятым-девяностым годам либеральному крылу американских политиков придется посвящать массу времени защите прав геев и права на аборты и бороться за то, чтобы из школьной программы убрали обязательные молитвы и учение о сотворении мира? Верх политического цинизма – корпоративная элита, чьи представители в своем большинстве были выпускниками университетов Лиги плюща и вели космополитический образ жизни, готова была насаждать пережитки прошлого вплоть до процесса Скоупса[13], намеренно поддерживая самые невежественные и нетерпимые слои нашего общества, анклавы тлеющего возмущения, которые, дай им волю, сжигали бы ведьм и клеймили неверных жен.
Еще более эффективным, чем сотрудничество с реакционерами библейского пояса[14], оказалось систематическое упразднение корпорациями общества изобилия. Насмотревшись малоприятных вещей, к которым приводят кругленькие зарплаты и культурная вседозволенность, деловые лидеры положились на более тупое и традиционное оружие: экономическую нестабильность. Они экспортировали рабочие места, обещавшие когда-то сделать изобилие возможным для всех, и преследовали профсоюзы, защищавшие высокие зарплаты. Это оказалось куда более эффективной формой социального контроля, чем корпоративная щедрость. В рамках новой глобальной экономики американские рабочие были вынуждены соревноваться с пеонами, если хотели сохранить работу. Бездомные, заполонившие улицы и наши телеэкраны с начала восьмидесятых, служат постоянным напоминанием о том, как низко человек может пасть в Америке. Дефицит, который в годы правления Рейгана нагнетался фискальными консерваторами, урезал каждую социальную программу, обещавшую когда-то положить конец экономическим пертурбациям. Даже транжиры-либералы содрогнулись при виде того, как нация все глубже увязает в долгах. Нить за нитью выдернули страховочную сетку, помогавшую рабочим в трудные времена, и с полным правом поставили безработных и бездомных, которым всерьез угрожает голод, перед новым социальным дарвинизмом. Так и представляешь, как аналитический центр процветающего правого крыла – ретивый (и с хорошим жалованьем) мозговой трест консерваторов – сидит и комбинирует избранные места из Эндрю Ура[15], Эдвина Чедвика[16] и преподобного Мальтуса в поисках новых идей для нашего индустриального будущего: сиротские приюты, работные дома, скованные одной цепью каторжники, проверка нуждаемости, телесные наказания, публичные казни, созданные самими компаниями профсоюзы и железный закон заработной платы.
Это конъюнктурное наступление на сочувствие и простую порядочность называлось популизмом, однако популизм этот не имеет ничего общего со своим великим тезкой с боевым кличем «Мочи богатеев»[17]. Исторический популизм ясно высказался в отношении проблемы «люди против интересов», а ведь нет интереса опаснее силы денег. Гнев есть и сегодня, но нет политической смекалки, которая прежде давала гневу разумное и этически правильное направление. Сейчас враждебность отклонилась от корпоративных высот и обратилась вниз – против бедных. Начался поиск козлов отпущения. Неприязнь выросла до беспричинной вражды к «правительству». Такая далеко зашедшая тупая ненависть ставит под угрозу даже минимальную безопасность и медицинскую и социальную страховку. Не нужно богатого воображения, чтобы сообразить, в чьих интересах принести в жертву бессильных и отобрать у федерального правительства распорядительные полномочия, единственную защиту общества от тех, кого Теодор Рузвельт назвал однажды «злодеями с большим кошельком».
В определенном досадном смысле это можно считать самым долговечным достижением контркультуры: она показала людям, как легко власть коррумпирует национальных лидеров. Но с помощью дьявольски умной обработки полученного урока консервативные элементы повернули гнев общественности на Вашингтон, оставив расширяющийся корпоративный истеблишмент невидимым для критики. В шестидесятые, когда протестующие нападали на «властные структуры», вряд ли они имели в виду социальную страховку или службу Национального парка. Скорее они выступали против ведения войны, слежки и полицейских полномочий федерального правительства. В этих областях жизни злоупотребление властью совершалось при полном сотрудничестве корпоративной элиты. Сегодня мы имеем одноглазый популизм, который не видит того, кто принес его в жертву.
Впервые меня спросили, что сталось с контркультурой, в 1970 году, через шесть месяцев после выхода этой книги. Вопрос задал репортер из «Ньюсуик», которому не терпелось перейти к следующей животрепещущей теме. Когда книга вышла, некоторые представители средств массовой информации поспешили интерпретировать название как неприятие движения протеста. Ведь «контркультура» – это что-то негативное, варварское, откат назад? Так они заявляли, ожидая, что я обрушусь с критикой на буйную непокорную молодежь.
В ретивом стремлении похоронить движение протеста мне всегда чудится признак того, что контркультура задела кого-то за живое. Даже упрощенная до лохматых причесок и массового пристрастия к ЛСД после «Электропрохладительного кислотного теста»[18], она несет в себе угрозу. Позже, в середине восьмидесятых, обычным тоном разговора о контркультуре стал благодушно-пренебрежительный, будто и не было ничего, кроме забав молодежи. Но движение протеста не могло быть легковесным, иначе как объяснить такую реакцию консервативного истеблишмента? До сих пор термин «диссидентская» используется ведущими голосами консерваторов как уничижающий и умаляющий. Видимо, образ отвергавшей устои молодежи, разрушавшей все якобы ценности индустриализации, угрожал статус-кво сильнее, чем понимали сами диссиденты.