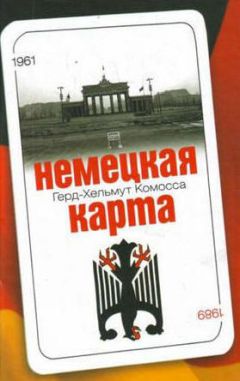Поездка в Зальцбург имела и еще одну цель. Мой приятель Р. организовал встречу с одним, как он сказал, старым русским приятелем. Его зовут Грегор, и он имеет отношение к советскому посольству в Вене. Или консульству? Он этого точно не знает. Не может он мне и определенно сказать, чем он там занимается. Может быть, он имеет отношение к экономике. А может быть, и к культуре, он необыкновенно интересуется австрийской культурой, постоянно бывает на зальцбургских фестивалях и превосходно владеет немецким. Ладно, посмотрим. Если русский дипломат интересуется культурой, то скорее всего сфера его подлинных интересов должна лежать достаточно далеко от нее. В ресторане при первом же взгляде на «старого знакомого из Фрайлассинга» выяснилось, что это скорее мой старый друг, чем Р.
Грегору не было нужды показывать свой паспорт, так как он наверняка был на чужое имя, как и мой собственный, если я по делам службы находился в Австрии. За несколько лет до этого Грегор был не Грегором, а Олегом К., и, как помнит благосклонный читатель, гостил он у меня в Гельзенкирхене. И Олег К. не был дезертировавшим из Советской армии капитаном, а ко времени нашей встречи в Зальцбурге был по меньшей мере полковником. Был ли он Олегом К., Грегором или еще кем–то? Кто это может знать? Среди моих приятелей тех лет было немало таких, чьи имена не имело смысла запоминать — они наверняка были вымышленными. И тогда, когда я впервые повстречался с этим человеком, он интересовался не столько культурой, сколько политикой. В то время он выступал в Федеративной Республике с лекциями для немцев о советском коммунизме. В войну он якобы оказался в плену у немцев и осознал всю ошибочность большевизма. Вся история показалась мне весьма странной: знакомство, затем исчезновение на годы из поля зрения и снова случайная (?) встреча, а за ней ничего.
Прощаясь, Грегор сказал: «…мы противники, но вы мне как–то симпатичны». В этой связи мне вспомнилась партия в карты с моими американскими и французскими друзьями в Мангейм—Зеккенхайме. Были ли мы друзьями? Или даже товарищами по оружию? Я никогда бы не смог пристрелить фронтового друга, ни за что на свете. А Боб Данн, тогдашний мой товарищ, думал совсем иначе. Если бы на то был приказ,то он бы меня расстрелял, не мешкая ни секунды, гак сказал он сам. И я действительно в этом не сомневался. Это стало для меня уроком, толчком к долгим размышлениям. Приказ и повиновение — вот ключевые понятия.
Когда в марте 1945 г. на пустоши Тухель на моих глазах два служащих полевой жандармерии вздернули без всякого разбирательства фельдфебеля с рыцарским крестом под полевой курткой, дрогнувшего перед атакой русских, повесив его на придорожном дереве менее чем в ста метрах от моего наблюдательного пункта, тогда и рухнула во мне вера в заповедь боевого братства, в правосудие и справедливость. Ну нельзя же было просто так повесить солдата, отмеченного столь высокой боевой наградой! Заметив у него еще какие–то признаки жизни, жандармы вынули его из петли, заставили его сделать несколько шагов и пристрелили. Как было это пережить 20–летнему солдату?!
Но всякие дальнейшие размышления были тут же вытеснены тем, что происходило прямо перед нашими позициями. Всего в каких–нибудь 300 метрах вверх по холму медленно ползли три русских танка Т-34, очень неспешно. Стволы их орудий поворачивались слева направо и снова налево в поисках цели. Времени на размышления о справедливости и законности не оставалось. Надо было отступать. И мы отступили не менее поспешно, чем кавалер ордена рыцарского креста. Полевую жандармерию было уже не видать. А чуть поодаль лежал в снегу немецкий солдат, незадолго до того верно и мужественно исполнявший свой долг. «Что напишет ротный его родственникам?» — думал я. В местной газете, наверное, появится траурное извещение: «В тяжелом оборонительном бою на Тухельской пустоши пал за фюрера, народ и отечество обер- фельдфебель X.» В то время смерть звала каждого из нас. И многие повиновались ее призыву, уходя один за другим. И сегодня по ночам я еще слышу этот клич, призыв к «каждому», с раскатистым эхом. Каждый! Каждый! И каждый должен был на него откликаться. День за днем! Что же это за солдатское братство, когда по приказу расстреливают боевого товарища?
Олег К., или Грегор, или как там его еще звали, был одного поколения со мной. Он был солдатом, прошел фронт, попал в немецкий плен. И постарался после него выжить, что ему неплохо удалось. Ему повезло больше, чем его товарищам, с которыми в Советском Союзе разговор был коротким. Какими–то обходными путями он после репатриации попал в министерство внутренних дел, МВД. Владение немецким языком помогло ему. В оккупированной Германии такие кадры были тогда нужны.
На одном из семинаров в университете им. Юлиуса—Максимилиана в Вюрцбурге обсуждалось стратегическое значение Эгейского моря. Я должен был выступить там с основным докладом. В числе участников оказались и мои добрые знакомые. Например, Свен Эрик Берг, шведский книгоиздатель, а также зять заместителя председателя Госсовета ГДР Вилли Штофа. Зять, как и я, читал в то время лекционный курс в университете Вюрцбурга.
С Олегом К. мы встретились еще раз на приеме в Таунусе, который устроила некая средней руки фирма и на котором присутствовали и русские бизнесмены. Мой знакомец представлял фирму, интересовавшуюся размещением заказов на трубы и емкости из пластика. Переговоры не дали тогда положительного результата, потому что у немецкой стороны были завышенные ожидания, а русская сторона, по–видимому, не имела поля для маневра или подлинные интересы бизнесменов из России лежали где–то в другой области. Мы поприветствовали друг друга как старые знакомые. Также и расстались после трехдневных переговоров.
Игра краплеными картами — предложение стать атташе в Москве
Настало время вернуться летописцу к собственно цели этих воспоминаний о последних десятилетиях и о плотно вписанных в них событиях, которые имели определенное значение, но до сих пор остаются неизвестными заинтересованному читателю.
В один прекрасный день у командира 12–й танковой бригады бундесвера в Амберге, в казарме императора Вильгельма, неожиданно появился генеральный инспектор бундесвера адмирал Армии Циммерман. Чего–то чрезвычайного в этом не было. Генеральный инспектор частенько наведывался в части, чтобы составить себе личное о них впечатление. Но это посещение имело и особую цель. На полигоне адмирал отвел меня в сторону и спросил: «А не хотели ли бы вы стать атташе в Москве?» Вообще–то я к этому вопросу был подготовлен приятелем из Управления кадров и поэтому отвечал без размышлений. «Нет, благодарю вас. Москвы я не пожелал бы ни себе, ни моей семье. Жизнь под постоянным присмотром, контролем, в стране, где мне пришлось столько пережить? Нет, благодарю».
Мне показалось, что адмирал даже испытал некое облегчение, причины которого тогда мне были непонятны. Возможно, принимая во внимание мою службу в войсках, он присматривался ко мне для выдвижения на командную должность. Но тогда он ничего больше не добавил. Еще до этого в Бонне уже подумывали о назначении меня военным атташе в Вашингтон, но и тогда это не состоялось из–за моего желания служить в войсках.
В министерстве обороны, естественно, испытывали трудности с замещением поста в Москве. Кроме меня, кажется, не было офицера в генеральском звании, который учил бы русский еще в школе, а потом и четыре года на нем разговаривал. В конце концов выбор пал на командира 10–й воздушнодесантной бригады в Вайдене. Когда на учебном полигоне в Графенвёре я поздравил его с этим интересным назначением, он не выглядел особенно счастливым. Желая несколько приободрить его, я заговорил по–русски, но он только отмахнулся. «Нет, я не говорю по–русски, — ответил полковник В., — и не собираюсь его учить. В атташате всегда можно обойтись английским». Но только не в Советском Союзе, подумал я и сказал ему это. Потому что твердо помнил: в России знание языка играет очень существенную роль. Когда меня в свое время представляли главному инженеру целлюлозно–бумажного комбината, это выразилось в его возгласе: «Да он говорит по–русски! Это наш человек». Был в этом какой–то очень непосредственный отзвук русской души: он наш, он говорит на нашем языке.
Надо сказать, что полковник В. чувствовал себя в Москве не слишком комфортно, хотя это и была очень заманчивая должность для офицера бундесвера. К сожалению, он рано умер. Я действительно не претендовал на этот пост, что, возможно, было ошибкой.
Генерал Книрков: противник и друг одновременно?
Стоп–кадр из прошлого. Конец 70–х гг. Скучноватый рутинный прием в Бонне. Свыше двух часов на ногах, непрерывное перемещение по залу с бокалом шампанского в руке. (Участвует только очень узкий круг в небольшом помещении.) Разговоры. Официальные приемы по незначительным поводам не имеют ничего общего с рейнским менталитетом.