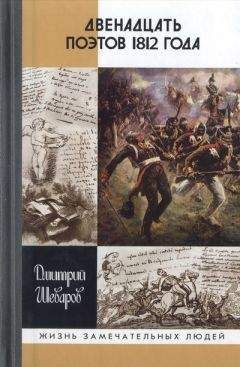Многим уже известно было на другой день, что я лишился двух лошадей, и меня поздравляли с этим почином. Дело в том, что Милорадович сам рассказывал об этом в главной квартире Кутузова. После этого минутного знакомства мы всегда с ним оставались в хороших отношениях…»[337]
Добрый Милорадович, узнав, что беременная жена Вяземского эвакуирована в Ярославль и жестоко страдает там от разлуки с мужем, великодушно отпускает своего адъютанта на все четыре стороны.
1 сентября Вяземский покидает Москву и через два дня добирается до Ярославля. Вскоре супруги решаются ехать дальше на север.
Почему они отправились в Вологду, а не в Нижний Новгород, куда эвакуировались многие знакомые и друзья Вяземских? Этого не мог понять и Батюшков, который знал, как трудна дорога до его родного города. 3 октября он писал Вяземскому: «От Карамзиных узнал, что ты поехал в Вологду, и не мог тому надивиться. Зачем не в Нижний?.. Я жалею о тебе от всей души; жалею о княгине, принужденной тащиться из Москвы до Ярославля, до Вологды, чтобы родить в какой-нибудь лачуге…»[338]
В конце сентября супруги Вяземские приезжают в Вологду, где снимают дом у Соборной горки.
Что Петр Андреевич знал прежде об этом городе? Пожалуй, в пути он мог вспомнить лишь забавные строки Михаила Никитича Муравьева, его сонет «Описание Вологды», написанный еще в юности и опубликованный в посмертном издании 1810 года:
Хороших и худых собрание домов,
Дворян, купцов и слуг смешенье несобразно,
Велико множество церквей, попов, дьячков,
Строенья разного, расположенья разно.
Подьячих и солдат, терем колодников,
Ребят и стариков собрание лишь праздно
И целовальников, и пьяниц, кабаков.
Хаос порядочный, смешенье многобразно
Старух и девочек, и женщин, и девиц,
И разных множество, и непохожих лиц,
Птиц, кошек и зверей, собак, что носят ворот…[339]
Осенью 1812 года Вологда действительно представляла собой «хаос порядочный, смешенье многобразно». Дмитрий Завалишин, восьмилетним мальчиком отправленный отцом в эвакуацию, вспоминал потом: «Вологду мы нашли набитую уже битком приезжими, удалившимися из губерний, ближайших к Москве и Петербургу и из находившихся по пути движения неприятеля»[340].
А оказались Вяземские в Вологде по одной важной причине: сюда эвакуировался из Москвы доктор, наблюдавший Веру Федоровну. Его имя с почтением произносилось во всех московских дворянских семьях, да и не только в дворянских.
Вильгельм Рихтер был самым авторитетным врачом-акушером в Москве. В 1806 году он основал Повивальный институт при Императорском Воспитательном доме и родильный госпиталь при Московском университете. После войны Рихтер стал главным акушером Москвы.
В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть…
Н. В. Гоголь о Вяземском. 1846 г.
Вологодские досуги. — Послание друзьям. — Письмо Батюшкову. — Его ответ. — Вьюга. — Послание Остолопову
Длинными осенними вечерами Вяземский с юмором рассказывал жене о своих приключениях.
По утрам, если не было дождя, Вяземский уходил бродить по городу, который из-за своей малости выглядел игрушечным. Молодой князь обходил его за полчаса, а потом долго стоял на Соборной горке и смотрел на Софийский собор, напоминавший ему Москву, Кремль. В утреннем тумане могучий собор казался бесплотным видением.
23 сентября он пишет Батюшкову: «Я в Вологде, любезнейший друг, а судьба не дает мне и удовольствие найти тебя здесь. Мы свиделись с тобою в горестное время, но в сравнении с настоящим оно было еще сносно. Теперешнее ужасно, и надежда, столь много нас обманувшая, не имеет уже права на сердца наши. Я привез сюда жену и каждый день ожидаю ее разрешения. Да благословит ее Бог. Все чувства, кроме чувства дружбы и привязанности к ближним и к вам, любезнейшие друзья мои, умерли в душе моей. О происшествиях, о ужасных происшествиях, поразивших нас столь быстро, столь неожиданно, не имею силы думать. Все способности разума теряются, сердце замирает, воспоминая о Москве.
Где ты, любезнейший? Говорят, во Владимире. Не думаешь ли переехать сюда? Не знаешь ли чего о Жуковском? Он перед отъездом моим из Москвы был у меня и сказывал, что он из полка перешел в дежурство Кутузова. Признаюсь, не поздравляю его с этим. Имя его для меня ужаснее имени врага нашего. Прости, мой милый. Пиши, а если можно, приезжай к другу твоему Вяземскому…»[341]
Батюшков вскоре отозвался из Нижнего Новгорода большим и, как всегда, горячим письмом: «Ты меня зовешь в Вологду, и я, конечно, приехал бы, не замедля минутой, если б была возможность… Увидеться с тобою и с родными для меня будет приятно, если судьбы на это согласятся; в противном случае я решился, — и твердо решился, — отправиться в армию, куда и долг призывает, и рассудок, и сердце, сердце, лишенное покоя ужасными происшествиями нашего времени. Военная жизнь и биваки меня вылечат от грусти…
Здесь я нашел всю Москву. Карамзина, которая тебя любит и любит и уважает княгиню, жалеет, что ты не здесь. Муж ее поехал на время в Арзамас. Алексей М<ихайлович> Пушкин плачет неутешно: он все потерял, кроме жены и детей. Василий Пушкин забыл в Москве книги и сына: книги сожжены, а сына вынес на руках его слуга… Везде слышу вздохи, вижу слезы — и везде глупость. Все жалуются и бранят французов по-французски, а патриотизм заключается в словах: point de paix! (Ни слова о мире (фр.). — Д. Ш.) Истинно много, слишком много зла под луною; я в этом всегда был уверен, а ныне сделал новое замечание: человек так сотворен, что ничего вполне чувствовать не в силах, даже самого зла: ибо с потерею Москвы можно бы потерять жизнь; потерю Москвы немногие постигают. Она, как солнце, ослепляет. Мы все в чаду. Как бы то ни было, мой милый, любезный друг, так было угодно Провидению!
Тебе же, как супругу и отцу семейства, потребна решительность и великодушие. Ты не все потерял, а научился многому. Одиссея твоя почти кончилась. Ум был, а рассудок пришел. Не унывай, любезный друг, время все уносит и самые горести; со временем будем еще наслаждаться дарами фортуны и роскоши, а пока дружбою людей добрых, в числе которых и я: ибо любить умею моих друзей, и в горе они мне дороже.
Кстати о друзьях: Жуковский, иные говорят — в армии, другие — в Туле. Дай Бог, чтобы он был в Туле и поберег себя для счастливейших времен. Я еще надеюсь читать его стихи, милый друг, надеюсь, что не все потеряно в нашем отечестве, и дай Бог умереть с этой надеждою. Если же ты меня переживешь, то возьми у Блудова мои сочинения, делай с ними что хочешь; вот все, что могу оставить тебе. Может быть, мы никогда не увидимся! Может быть, штык или пуля лишит тебя товарища веселых дней юности… Но я пишу письмо, а не элегию; надеюсь на Бога и вручаю себя Провидению. Не забывай меня и люби, как прежде. Княгине усердно кланяюсь и желаю ей счастливо родить сына, а не дочь…»[342]
Пришла зима. Страшно было подумать о тех, кого она застала без крыши над головой, на пепелищах Москвы или на биваках в полях. В стихотворном послании друзьям, написанном в октябре, Вяземский пишет: «…в сей самый час, / Как ночи сон тревожит вьюга…»
Финал этого стихотворения — короткое описание зимнего утра. Затеплившаяся вологодская заря так же робка, как надежды автора:
… Но вот уж мрак сошел с полей
И вьюга с ночью удалилась,
А вас душа не допросилась;
Зарей окрестность озлатилась…
Прийти ль когда заре моей?
По вечерам Вяземский листал местный Адрес-календарь. Князь досадовал, что кроме Шипиловых — людей совсем не светских, вечно занятых детьми, — он не находит в календаре ни одной фамилии, которая была бы ему хоть отдаленно знакома. Но ведь невозможно сидеть всю зиму в четырех стенах! Вяземский чувствовал, что без острого разговора с симпатичным и толковым собеседником, без этой разминки ума, он становится все более раздражительным.
Но вот одна фамилия — Остолопов, губернский прокурор — остановила внимание князя. Он вспомнил, что однажды Батюшков говорил ему об этом человеке что-то доброе (впрочем, о ком Батюшков когда-нибудь говорил плохо?). Константин рассказывал, что этому почтенному стихотворцу со строгим вкусом он обязан своей первой публикацией. А потом подсовывал журнал с какой-то статьей и стихами Остолопова: мол, погляди. Но что за статья и что за стихи, хороши они были или нет — разве сейчас вспомнишь. Впрочем, главное, что Остолопов — стихотворец, ученик Державина и Дмитриева. И пусть этот тридцатилетний губернский чиновник, верно, напыщен и тщеславен, как все птенцы державинского гнезда, но по литературе-то — свой брат, будет с кем поговорить не только о войне, но и о поэзии.