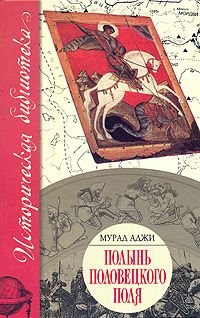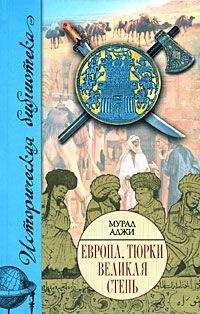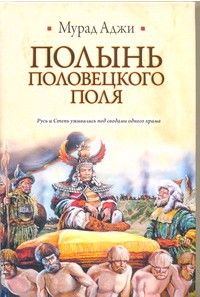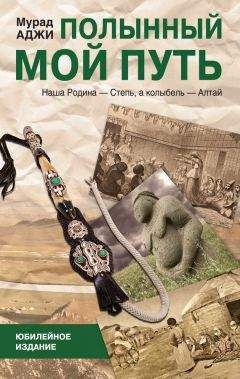Первая заповедь у казаков: младший на поклоне у старшего. Исключений не делали. Как и у всех кипчаков.
Но старший обязан учить только хорошему. Потому что если что не так, то находился более старший, который мог плохому учителю леща отвесить. Да так, что у того искры из глаз летели, — всей пятерней.
Младший не имел права курить перед старшим. А пить и подавно. При встрече обязан был снять картуз и первым поздороваться. Сидеть в присутствии старшего запрещалось… С такими правилами жила наша Великая Степь.
Вторая заповедь — взаимопомощь: «Свое не делай, а другу помоги». Помогали погорельцам, семьям погибших казаков. «Дай до урожая», — просил сосед. И давали.
— А мог и не просить, — просвещал Михаил Васильевич. — Считалось нормальным взять у соседа картошку, кукурузу себе, на еду… Вот в степи работает семья, картошку убирает, подходит путник, набирает котелок или сопетку, и никто слова не скажет, еще и пожелают: «На здоровье». Но если взял больше этой меры — уже плохо. И высечь могут.
Третья заповедь: Бога чтить, предков своих второй чаркой поминать: «За прародителей».
— Чтоб, не помолившись, за стол сесть… такого не было…
Я на мгновение отвлекся от разговора и вспомнил престольный праздник в соседней станице. Что сказать? Уныние. Станица чуть живая, дома разве что набок не ложатся. Церковь порушена. Там был праздник по случаю закладки новой церкви. Отец Виталий, священник из Владикавказа, благословил всех молитвою. Тишина. Никто не перекрестился, лишь единицы из женщин-старушек руку ко лбу поднесли, мужская же половина так и простояла — руки в брюки. А стояло-то человек двести… Уже не казаки? Или еще не казаки? Стоят, как на концерте.
«В станице Ардон, — потом рассказывал мне священник, — церковь пустой стоит. Не ходят, лишь наведываются». «Откуда это?» — спрашиваю. Он начал про атеизм говорить. А по-моему, не в атеизме дело. Истинно, «все от Бога!».
Наказал Он нас, забывших корни свои. Даже имя народ потерял! И поделом! В помоях возимся, чтобы крупицы своей памяти найти. Все забыли.
— Конечно, законов у казаков не было, — рассуждал Михаил Васильевич, — вернее, их не записывали, просто знали. И выполняли не задумываясь. Например, закон гостеприимства. Кто ему учил?
— Жизнь.
— Да-да, все в разумном соответствии строилось. Мальчишка с детства знал крестьянское ремесло. Лишь потом учили его секретам казачьего искусства — джигитовке, рубке лозы… Но сначала — как кусок хлеба добыть, как работы не бояться. Поэтому и жили мы зажиточно, что любили работать.
Я и сам приметил, в Архонке хозяйства справные, значит, не разучились работать казаки. И песни петь не разучились. Правда, не так. Гуртовых песен уже нет. Молодежь от телевизора не оторвешь, скучно живет станица. А прежде: «На каждом углу — гармошка, придут из степи и вокруг станицы гулять. На улице не умещались». Ныне в Архонке только хор и поет, поет голосисто, а желающие подпевают:
Прощай, казачка дорогая,
Прощай, голубушка моя…
— Не могу, трудно что-то дальше вспоминать, — промолвил Михаил Васильевич обессиленно и по-стариковски закрыл глаза. Я понял — пора заканчивать.
Так кто же они, казаки? Со школы я знал образ только двух казаков: один — с нагайкой, а другой — хапуга, грабящий бедных. «Очень плохие эти казаки, они рабочих били», — учили нас в университете.
И был в тех словах политический расчет: кому же приятно называть себя казаком? «Поганым татарином»? Уж лучше русским быть. Боялись люди вспоминать предков. Страхом жили.
Но как бы ни хотели кремлевские вожаки, нельзя из казака сделать русского, эстонца или молдаванина. В паспорте-то можно. А так — нельзя. Чтобы не быть голословным, приведу слова Евграфа Петровича Савельева, донского казака, царствие ему Небесное. Он много сделал в XIX веке для казачества. Но не был услышан.
После чтения его книги «Типы донских казаков и особенности их говора» появился этот мой рассказ. Хорошая книга… Приведу цитату и сразу скажу: прав Савельев, абсолютно прав.
«Население Дона в половине XVI столетия относится к четырем главным элементам древнего казачества, народа, резко отличающегося своим антропологическим типом как от великороссов, так и малороссов, то есть такими физическими особенностями устройства туловища, ног, в особенности голеней, головы и лица, которые заставляют всякого, хорошо во всех отношениях изучившего казачество, выделить природного казака из массы других народностей, даже если бы его поставить в разноплеменную толпу и одеть в несвойственные ему одежды».
И весь сказ!
Теперь я всматриваюсь в лица знакомых и незнакомых людей, и если это казак, то чувствую в нем родственное тепло. Ибо дальше Савельев приводит сравнение внешности казаков с иными народами Северного Кавказа и говорит об их «поразительном сходстве… Но иллюзия тотчас пропадает, когда заговоришь с ними по-русски: они ни слова не понимают».
И вот здесь Савельев словно оступился на ровном месте, потому как не захотел ответить на вопрос: а зачем кавказцам понимать по-русски, если они говорили на родном языке? Допустить мысль, что казаки и кумыки один народ, Савельев «не решился».
Цензура?! Она останавливала.
Хотя все отмечали влияние тюркского языка на речь казаков: «В настоящее время говор этот под влиянием народных школ и полкового обучения до того сгладился, что не далеко уже время, когда он совсем исчезнет».
Остается лишь добавить: слова эти написаны в начале XX века. А говор-то не исчез! Балакают казаки по-своему, «по-домашнему». Уже не стесняются своего родного языка.
Книги Савельева мне раскрыли глаза: например, почему в старинных песнях кумыки вспоминают Ана-Дон (дословно «матушка-Дон»), Кырым, Кубан и другие края, лежащие далеко от моего родного Дагестана. Тоже ведь не случайно.
Прояснили они и то, почему наш кумыкский аул Аксай называют «новым», а «старый», по преданию, где-то на севере… И верно — около Ростова есть город Аксай… Значит, отсюда и вышли мои предки?.. Невероятно, но этот факт отмечен Рубруком: в 1253 году нашего, дагестанского, Аксая не было, а был Эндирей-аул, соседнее с нами селение.
По вечерам в доме Белоусов мы рассматривали фотографии, которые Фекла Павловна хранит в полиэтиленовом мешочке. Фотографии разные: старые и не совсем. Но о каждом человеке моя хозяйка неторопливо рассказывала.
— Мышка забралась, пообточила, — проговорила она, взяв фотографию, на которой осталась лишь часть того, что было (далеко хранились те фотографии, там, куда только мышка и пролезет). — Вот этот — отец мой. Справный казак был.
На меня смотрел усатый молодец, подтянутый, как струна, как пружина, готовая спустить боек. И вот уже рассказывает об отце, о его жизни, так неожиданно оборвавшейся… Как же тепло на душе от этих тихих воспоминаний в казачьей хате, где в углу стоит железная кровать с никелированными шишками, на ней спал этот человек из того времени, рядом с кроватью шкаф с мутным от старости зеркалом, сюда этот человек из того времени вешал свою черкеску…
Казалось бы, ничего не изменилось в комнате с тех пор. Только нет человека! Нет казака, его потомки не казаки.
С 1918 по 1921 год, словно раскаты грома, гремели расстрелы в казачьих станицах. Били друг друга казаки нещадно: красные шли на белых, белые красным кровь пускали. Повоевали братья всласть, вдоволь. А тот, кто «в красных портках на казачьем коне», потирал руки и орал во все горло: «Да здравствует славное трудовое казачество!», вспоминала Фекла Павловна.
Поредели станицы, будто слепые пропололи здесь огороды — все повыдергивали. Мужчину на улице не встретить было, около станицы Архонской лес начинался, там казаки скрывались.
Да от судьбы разве скроешься?
Кого не убили по приказу новой власти, выселять начали. «Вон. Куда хошь». А скот, имущество оставлять приказывали. Голых, как соколят, увозили казаков на выселки.
В те годы на Соловецких островах по приказу Льва Троцкого открыли настоящую фабрику смерти для казачества. Почти пять миллионов жизней перемолола она. Деревья не растут в полный рост и в Краснодаре, где Яков Свердлов уложил около полутора миллионов казаков. С терскими казаками расправлялись люди Серго Орджоникидзе… Пустела тогда Россия не по дням, а по часам.
И плакать было некому.
Еще свирепствовали расстрелы, когда, будто по заказу, начался голод — «без работников много ли наработаешь»? В тот страшный год и природа помогала комиссарам людей губить: град выпал с куриное яйцо. Все побил. Степь черной простояла. «Ни живого, ни какого…» Очень голодовали казаки.
Но не все, иным и день мора праздником был.
— Свистуны у нас по дворам гуляли, как у себя. Потом инспекторов из города приводили. Свистунам чего-то перепадало из хороших вещей… Вроде бы дурные, а на свою сторону тянули.