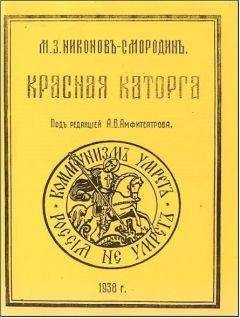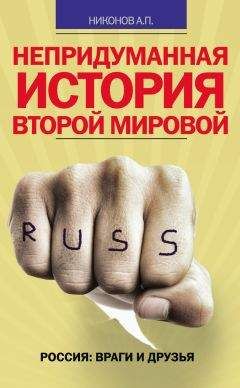и гражданской войне.
Первым опытом оптимистического осмысления революционных событий был, вероятно, сборник «Из глубины», который издали в 1918 году выдающиеся русские мыслители того времени умеренно либерального и умеренно консервативного направления. Философ Сергей Франк иронизировал: «Господствующее простое объяснение случившегося, до которого теперь дошел средний «кающийся» русский интеллигент, состоит в ссылке на «неподготовленность народа». Согласно этому объяснению, «народ» в силу своей невежественности и государственной невоспитанности, в которых повинен тот же «старый режим», оказался не в состоянии усвоить и осуществить прекрасные, задуманные революционной интеллигенцией реформы и своим грубым, неумелым поведением погубили «страну и революцию». Сам Франк придерживался иного мнения. «Народ есть всегда, даже в самом демократическом государстве, исполнитель, орудие в руках какого-либо направляющего и вдохновляющего меньшинства… Процесс… постепенного вытеснения добра злом, света тьмой в народной душе совершался под планомерным и упорным воздействием руководящей революционной интеллигенции… Интеллигенты-социалисты должны, прежде чем обвинять народ в своей неудаче, вспомнить всю свою деятельность, направленную на разрушение государственной и гражданской дисциплины народа, на затаптывание в грязь самой патриотической идеи, на разнуздание под именем рабочего и аграрного движения корыстолюбивых инстинктов и классовой ненависти в народных массах…» [36].
Мнение Франка в полной мере поддерживал Петр Струве: «Явление русской революции объясняется совпадением того извращенного идейного воспитания русской интеллигенции, которое она получала в течение почти всего XIX века, с воздействием великой мировой войны на народные массы: война поставила народ в условия, сделавшие его особенно восприимчивым к деморализующей проповеди интеллигентских идей». Одновременно Струве отвергал версию о старом режиме как виновнике революции, считая его «технически удовлетворительным» и подчеркивая, что «недостатки этого режима коренились не в порядках и учреждениях, не в «бюрократии», «полиции», «самодержавии», как гласили общепринятые объяснения, а в нравах народа, или всей общественной среды, которые отчасти в известных границах даже сдерживались именно порядками и учреждениями» [37]. Кстати, Струве был одним из первых, кто использовал сравнение революционных событий начала XX века со Смутой начала XVII (к той же аналогии прибегали и другие современники, причем принадлежавшие к самым разным идеологическим лагерям: и социал-демократ и антисемит Локоть, и кадет-сионист Пасманик) [38].
«Оптимистической» выглядела позиция участников событий и эмигрантов, скорее симпатизировавших монархии. Для этого течения мысли весьма характерны выводы, сделанные историком и публицистом Иваном Солоневичем, который утверждал, что в феврале 1917 года никакой революции не было, состоялся почти классический военно-дворцовый заговор, организованный земельной, денежной и военной знатью во главе со спикером Думы Михаилом Родзянко, банкиром Александром Гучковым и генералом Михаилом Алексеевым. У Николая II Солоневич усматривал лишь две основные ошибки: «то, что призвали в армию металлистов, и то, что не повесили П. Н. Милюкова. Заводы лишились квалифицированных кадров, а в стране остался ее основной прохвост». Причинами революции, по мнению Солоневича и его единомышленников, явились «прозаическое предательство» правых и «теоретический утопизм» левых [39].
Другой эмигрантский автор — Иван Якобий — доказывал: «В России не было почвы для революции, русский народ не бунтовал, а работал и сражался на фронте, но государство разлагалось благодаря разложению правящего класса. Императору Николаю II пришлось нести бремя правления в годы, когда верхние слои населения из творческих обратились в разрушительные элементы». Якобий подчеркивал и роль внешнего фактора, называя основным «конспиративным центром, в котором велся подкоп под русскую Монархию и мощь России», английское посольство [40].
В эмигрантской черносотенной литературе доминирующими стали темы «жидо-масонского заговора» и разрушительной деятельности Прогрессивного блока в Государственной думе. Лидер думской фракции правых Николай Марков 2-й доказывал, что Россия «рухнула потому, что была заживо, изнутри пожрана червями… Эти черви были сознательные и бессознательные агенты темной силы иуд о-масонства». Но не они одни, поскольку за дело разрушения страны взялись «не бомбометатели из еврейского Бунда, не изуверы социальных вымыслов, не поносители чести Русской Армии Якубзоны, а самые заправские российские помещики, богатейшие купцы, чиновники, адвокаты, инженеры, священники, князья, графы, камергеры и всех Российских орденов кавалеры» [41].
Итак, еще в первые постреволюционные годы и десятилетия все базовые объяснения революции были сформулированы. Дальше началась их научная интерпретация и концептуализация. Причем шла она, в основном, на Западе, тогда как в СССР до конца 1980-х годов довольствовались смягченной марксистско-ленинской интерпретацией.
На Западе в советское время доминировали концепции, близкие к нашим левым и либеральным, а потому зарубежная литература о революции — как марксистская, так и немарксистская — выстроена, во многом, в пессимистическом ключе. Поначалу довольствовались газетными стереотипами, согласно которым «заговорщиками», свергнувшими царизм, объявлялись императрица, Распутин и бездарные министры, управлявшие нежизнеспособной страной при безвольном правителе. Но были и исключения. Одну из первых оценок революции в противоположном ключе дал Уинстон Черчилль: «Поверхностная мода нашего времени — описывать царский режим как слепую, прогнившую, ни к чему не способную тиранию. Но изучение тридцати месяцев войны с Германией и Австрией изменит это легковесное представление… Мы можем измерить прочность Российской империи теми ударами, которые она выдержала, теми неисчерпаемыми силами, которые она проявила». И, далее, об императоре: «Несмотря на ошибки большие и страшные — тот строй, который в нем воплощался, к этому моменту выиграл войну для России… Его действия теперь осуждают, его память порочат. Остановитесь и скажите: а кто другой оказался пригоднее?» [42]
Широкое научной изучение нашей революции на Западе началось уже в годы «холодной войны» и во многом в целях ее ведения. С тех пор сменились три поколения историков [43]. В чем-то они совпадали с упоминавшимися поколениями широких теоретиков революции, а чем-то и нет.
Поколение «отцов» было представлено почти исключительно либералами, которые настаивали на том, что в феврале 1917 года осуществлялся прорыв к свободе, направленный против несостоятельного и прогнившего царского режима. С этой точки зрения, они были «пессимистами». С другой стороны, отвергая марксистские трактовки, «отцы» подчеркивали роль субъективного фактора и тем самым нередко выступали в роли «оптимистов». Героями революции были политики, ориентированные на западный путь развития, в основном кадеты и умеренные социалисты; антигероями — представители власти, консерваторы, а также большевики, все испортившие. В эпических, хорошо документированных полотнах революции, выходивших из-под пера таких проверенных бойцов «холодной войны», как Ричард Пайпс, Джордж Кеннан, Збигнев Бжезинский, Адам Улам, Леонард Шапиро, Мартин Малиа, представало зеркальное отражение официальной советской историографии — с изменением оценок на прямо противоположные. «Отцы» уделяли первоочередное внимание настроениям и политическим действиям элит. Так, Пайпс полагал, что в начале XX столетия в России не было предпосылок, неумолимо толкавших ее в революцию, кроме общей бедности большой части населения и наличия необычайно активной и оппозиционно настроенной интеллигенции, поставлявшей