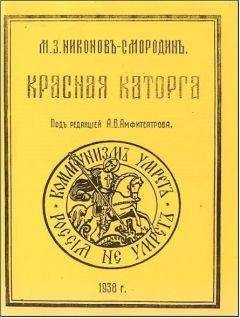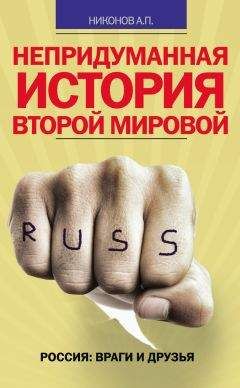современных либеральных российских политиков к событиям того времени неоднозначно. Часть из них считает себя наследниками и продолжателями дела мирной Февральской революции, открывшей дорогу для демократического развития, с которой страну столкнули большевики. «Главное, с чего надо начинать, — сказать… что мы — наследники февраля 1917 года. Что в России была монархия, она рухнула без всякого насилия, потому что она не смогла приспособиться к новым реалиям. Она металась 17 (? —
В. Н.) лет. Думу создавала, разгоняла, закончилось тем, что царь отрекся. Потом, находясь в тяжелейшем состоянии, в разрухе, наша страна начала создавать для того времени европейское государство: готовить Учредительное собрание и Конституцию, проводить выборы» [55], — писал накануне 90-летия Февральской революции лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Но тогда же с ним не соглашалась не менее либеральная политик Валерия Новодворская, которая полагала, что «Февраль вовсе не был ни бархатной, ни поющей, ни оранжевой революцией. Вместе с наивными интеллигентами, курсистками и гимназистками на улицы вырвался охлос. Громили магазины (через несколько дней Петроград остался без продовольствия), поджигали здания судов, полиции, военных ведомств, убивали полицейских, били офицеров и просто хорошо одетых людей… Хороший человек и очень плохой кризисный менеджер Николай II и бунт не сумел подавить, и до нужных реформ не додумался» [56].
Позиции оптимистов также по-прежнему сильны в современной российской мысли, причем в разных частях политического спектра.
Они безусловно преобладают на право-консервативном, национал-патриотическом, монархическом фланге. Для взглядов его представителей характерны слова историка Олега Платонова: «Движущими силами второй антирусской революции стали мировое масонство, российское либерально-масонское подполье, а также социалистические и националистические (прежде всего еврейские) круги, активно действовавшие во время войны на деньги германских и австрийских спецслужб, а также международных антирусских центров» [57]. Петр Мильтатули, чей предок был расстрелян вместе с императорской семьей в Екатеринбурге, считает, что произошла «не имеющая в примеров в истории измена верхушки русского общества и верхушки армии своему царю — Божьему Помазаннику, Верховному главнокомандующему, в условиях страшной войны, в канун судьбоносного наступления». При этом «ведущая организаторская роль в деле свержения императора Николая II с престола принадлежала силе извне», представлявшей «интересы тайного международного сообщества. Главной целью этого сообщества было уничтожение любой ценой самодержавной России» [58].
Наш великий современник Александр Солженицын продолжал, скорее, умеренно консервативную российскую традицию, усматривая причины революции и в действиях радикальной интеллигенции, и в ошибках Николая II. «Власть продремала и перестаревшие сословные пережитки, и безмерно затянувшееся неравноправие крестьянства, и затянувшуюся неразрешенность рабочего положения… А затем власть продремала и объем потерь, и народную усталость от затянувшейся… войны. Накал ненависти между образованным классом и властью делал невозможным никакие конструктивные совместные меры, компромиссы, государственные выходы, а создавал лишь истребительный потенциал уничтожения» [59]. Эти идеи Нобелевского лауреата о внутри-элитном расколе как источнике «потенциала уничтожения» развивают многие современные исследователи.
К такой же точке зрения склоняется глубокий петербургский историк социальных процессов в России Борис Миронов: «Непосредственная причина революции заключалась в борьбе за власть между разными группами элит: контрэлита в лице лидеров либерально-радикальной общественности хотела сама руководить модернизационным процессом, который почти непрерывно проходил в России в период империи, и на революционной волне отнять власть у старой элиты — романовской династии и консервативной бюрократии» [60].
Валерий Соловей видит универсальную логику всех русских «смутореволюций» — от начала XVII до конца XX века: «кризис во взаимоотношениях элит, их отчуждение, разделение, поляризация, апелляция враждующих элитных фракций к обществу. Именно элиты транслировали в общество революционные призывы, деструктивные образы и модели поведения, открывая пространство для прорыва накопившейся энергии массового недовольства» [61].
Владимир Булдаков, который утверждал, что «1917 г. следует оценивать по параметрам средневековой Смуты» и других смут в российской истории, также отдавал должное фактору раскола элит, отхода от поддержки императора церковных иерархов, высшего генералитета. Впрочем, Булдаков предлагает исключительно широкий спектр причин революции — от всеобъемлющих до относительно узких. Он пишет и о системном кризисе империи, в котором выделяет ряд уровней или стадий протекания: этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, рекреационный. При этом обращается внимание и на движущие силы революции, на рабочий и солдатский «бунт с изрядной примесью истероидности», переход на сторону восставших Петроградского гарнизона и т. д. [62]
По-прежнему распространено классическое оптимистическое объяснение революции как события, порожденного войной. «Революция 1917 г., на мой взгляд, — трагическая случайность», — подчеркивает профессор РГГУ Михаил Давыдов. Ее детонатором стала «безнадежно проигрываемая война со всеми многочисленными последствиями» [63]. Аналогичные взгляды высказывает С. М. Исхаков: «В результате Первой мировой войны, потребовавшей предельной концентрации сил и ресурсов, произошел коллапс… Правительство могло оплачивать не более половины своих затрат, что означало финансовый провал, банкротство государства, не выдержавшего «гонки» военных расходов». Февральская революция явилась «результатом неспособности устаревшей системы адекватно реагировать на угрозу со стороны экономически более развитых держав, стала следствием банкротства самодержавного государства, его административной и военной машины» [64].
В рамках чисто академической «оптимистической» и элитистской парадигмы находится все больше места мнениям о большой роли заговоров части верхов. «Февральскую и Октябрьскую революции спровоцировали, прежде всего, страдания и ожесточение народа от страшной войны, не ставшей действительно народной, — подчеркивает заместитель директора Института российской истории РАН В. М. Лавров. — Одновременно имелась и такая причина, которую можно назвать изменой высшего генералитета и ряда известных политиков (прежде всего Гучкова), вошедших вскоре во Временное правительство. Дворцовый переворот или заговор не только готовился, а осуществился, по меньшей мере, в том, что генералитет во главе с начальником Генерального штаба Алексеевым поддержал революцию» [65]. Серьезность таких заговоров подтверждается в ряде последних конкретно-исторических исследований [66].
Продолжается и линия авторов сборников «Вехи» и «Из глубины», связывающая революцию с интеллигентским максимализмом. Эти мнения высказывают современные философы, например, Борис Капустин, пишущий об «авангардистском синдроме», который «всякий раз выражался в стремлении просвещенного меньшинства скорректировать сложившуюся дискурсивную практику посредством разоблачения коварных властолюбивых мошенников (или даже их физического устранения, как это делали якобинцы) и наставления на путь истинный обманутых простаков, они же — несчастное и страдающее большинство» [67]. Их разделяют и историки, изучающие феномен русской интеллигенции: «Так или иначе, именно интеллигенция была идеологом, вдохновителем и организатором всех крупных революций в истории» [68].
Наконец, последнее, по порядку, но не по значению. В современной России вышло замечательное множество замечательных конкретно-исторических работ, которые по своему качеству, пониманию проблем и российской специфики, погружению в источники заметно превосходят современные исследования зарубежных историков русской революции. Можно назвать десятки и сотни книг и статей маститых и молодых отечественных аналитиков, которые очень глубоко и всесторонне рассмотрели события и