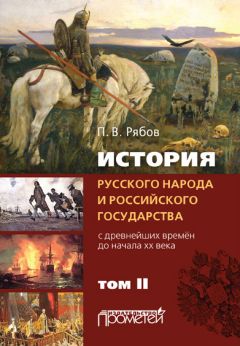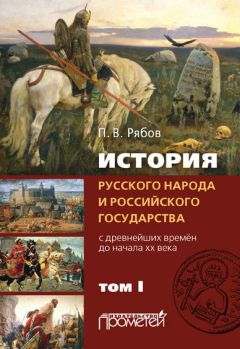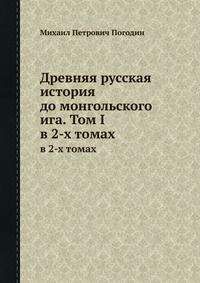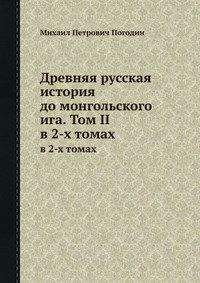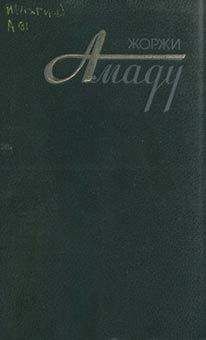В условиях всё обострявшихся конфликтов между крестьянской общиной и помещиками по вопросам землевладения, аренды, найма, выгонов, пастбищ, лесов и пр., подобное нововведение (точнее, введение старого!) не могло не вести к росту социальной напряженности в деревне. Крестьяне справедливо восприняли введение института земских начальников как восстановление прежней помещичьей власти над ними, «второе издание крепостного права». Земские начальники грубо вмешивались в дела крестьянской общины (повсеместно прибегая к поркам, мордобою и взяткам), выступали арбитрами в спорах между крестьянами и помещиками и, естественно, почти всегда на стороне последних, повсеместно практиковали чудовищный произвол, унижали человеческое достоинство крестьян. Они надзирали над крестьянским «миром», вершили суд, назначали наказания (штрафы, аресты, порки), смещали должностных лиц. Крестьяне не имели права жаловаться на земских начальников (как раньше они были лишены права жаловаться на «своих» господ). Сельский «мир» был существенно ограничен в своих правах, мировые суды уничтожены, разделение судебной и административной властей на самом низшем – самом важном – уровне было отменено. Всё это вызывало рост негодования, отчаянья, озлобления и ожесточения у крестьян против помещиков и царских властей, делало, в условиях малоземелья и нищеты крестьян, ситуацию в деревне взрывоопасной.
Показательно, что введение института земских начальников (по инициативе Д.А. Толстого) счёл вредной и чересчур реакционной мерой даже сам К.П. Победоносцев! В Государственном Совете за этот закон проголосовали лишь 13 членов, а 39 – против, настолько он казался чудовищным. Однако император подписал закон и настоял на его проведении в жизнь. Отныне все права крестьян, самоуправление, община, сама личность крестьянина отдавались на произвол дворян – земских начальников. Отныне Александра III в народе стали называть не «Царем-Миротворцем» (как в придворных кругах), но «Царем-Миропорцем». Дворянство, таким образом, вернуло себе значительную часть своей прежней, дореформенной вотчинно-полицейской власти над крестьянами. По мнению С.Ю. Витте, Александр III настоял на этой мере «именно потому, что он был соблазнён мыслью, что вся Россия будет разбита на земские участки, что в каждом участке будет почтенный дворянин, который пользуется в данной местности общим уважением, что этот почтенный дворянин-помещик будет опекать крестьян, судить их и рядить». Идея тотальной регламентации всей жизни населения и «отеческой опеки» над ним со стороны государства посредством дворян и чиновников неукоснительно проводилась императором в жизнь. Однако ему не удалось создать местную «крепкую и близкую к народу власть» из помещиков, осуществляющих судебно-полицейско-административную опеку, и вернуть дворянам власть над крестьянами и лидирующее место в сельской жизни, поскольку крестьянство роптало, а дворянство стремительно деградировало и разорялось.
В 1886 году был издан закон о найме сельскохозяйственных рабочих. По нему рабочий при найме должен был подписать «договорный лист», позволявший помещику в случае досрочного ухода рабочего предавать его суду. Помещик же, со своей стороны, мог уволить рабочего в любое время. Закон от 13 июня 1889 года существенно ограничивал переселение крестьян, чтобы обеспечить помещиков дешёвой рабочей силой. Самовольные переселенцы административно высылались по этапу на прежнее место жительства. Подобные меры ещё более напоминали крестьянам восстановление крепостного права.
Одновременно с курсом на усиление экономической и политической власти помещиков, правительство стремилось укрепить, законсервировать крестьянскую общину и затруднить крестьянам выход из неё. Община рассматривалась государством как патриархальное учреждение, социальная опора трона, удобная фискальная (налоговая) единица, полицейский инструмент надзора за деревней, а также как средство, защищающее крестьян от окончательного разорения и пролетаризации. И в самом деле, крестьяне крепко держались за общинную форму землевладения и социальной жизни, поскольку она помогала выжить нищим, увечным, сиротам, спасала крестьян в голодные годы. Принципы регулярных переделов земли (раз в пять-десять лет), взаимной поддержки и решения всех вопросов сельским сходом давно сформировали всё крестьянское мироощущение. А круговая порука крестьян при выплате налогов и выкупных платежей вполне устраивала правительство. Поэтому указы 1886 и 1893 годов усложнили выход крестьян из общины, обеспечивали соблюдение регулярности перераспределения земли внутри общины, консервировали её, как фискальную единицу и социальную основу самодержавия. Отныне разделы больших крестьянских семей могли происходить только с согласия главы семьи («большака») и с разрешения не менее чем 2⁄3 домохозяев на сельском сходе. Законодательно ограничивалась продажа земли, выделенной в собственность крестьян.
Однако усиление конфликтов между крестьянами и помещиками, за которыми стояла царская власть, радикализировало и консолидировало общину и толкало ее на путь революционной борьбы с дворянством и государством. Крестьяне мечтали о захвате и переделе помещичьих земель и об уничтожении правительственного гнёта. Народнические лозунги крестьянского самоуправления и общинного землевладения всё лучше воспринимались в деревне. Именно этот «тектонический сдвиг» в самом глубинном основании русской жизни – крестьянской общине: от лояльности трону и веры в «доброго царя» к революционности – и послужил главной причиной революции 1905–1907 годов. Наиболее дальновидные царские министры (и прежде всего С.Ю. Витте), осознав такую опасность, призывали уравнять крестьян в юридических правах с другими сословиями империи (в частности, отменив унизительные телесные наказания для крестьян), обеспечить им свободу передвижения и начать целенаправленное разрушение общины, чтобы на её развалинах создать небольшой слой самостоятельных зажиточных фермеров, поддерживающих абсолютную монархию (позднее эти меры попытался на деле осуществить П.А. Столыпин). Однако до 1905 года подобная точка зрения не разделялась подавляющим большинством высших сановников империи, среди которых сохранялась иллюзорная вера в патриархальное единение государя и народа и в общину, как надежную и главную опору престола.
Между тем в конце ХIХ века положение крестьян в России непрерывно ухудшалось и стало совсем плачевным. Растущее малоземелье и перенаселение, сословное неравенство, крепостническая политика правительства, произвол со стороны дворян, кабальная отработка на земле помещиков, господство в деревне помещичьих латифундий, чудовищный налоговый пресс и непосильные выкупные платежи, мировой сельскохозяйственный кризис конца века – всё это в совокупности вело к обнищанию крестьян и росту социальной напряженности и недовольства в деревне.
Результатом крестьянских контрреформ стал страшный голод 1891 года, унёсший множество жизней крестьян по всей стране. Правительство не только не оказывало поддержки голодающей по его вине деревне, но и осуждало попытки общественности оказать такую помощь (в этих мероприятиях по помощи голодающим принял активное участие и Л.Н. Толстой). Александра III раздражали упоминания о голоде в печати, и он высочайше повелел заменить в газетах неприятное слово «голод» словом «недород».
Стремительный рост антагонизма между крестьянами и помещиками и решительная поддержка самодержавным режимом последних делала аграрный вопрос главным вопросом российской жизни и подготавливала крестьянскую революцию.
В. Земская и городская контрреформы
Земства и городские думы, возникшие в эпоху реформ 1860-ых – 1870-ых годов и основанные на принципах всесословности, выборности, самостоятельности и общественного самоуправления, были несовместимы с политикой контрреформ Александра III.
«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» от 12 июня 1890 года, провозгласившее земскую контрреформу, вело к «одворяниванию» земств, подрыву в них всесословного и выборного начала, ограничению их прав и компетенции, парализующему их деятельность и к их растворению в государственно-чиновничьей машине. Если раньше губернатор мог отменить решение земств лишь по причине их «незаконности», то теперь – и по причине их «нецелесообразности» или «несоответствия общим государственным пользам» (с его, губернаторской, точки зрения). Все решения земств отныне утверждались губернатором и министром внутренних дел. Функции земств ограничивались только некоторыми хозяйственными вопросами, вопросами благоустройства и просвещения. Губернатор мог поставить на обсуждение земств любой вопрос. Крестьяне лишались своих выборных представителей в земствах. Отныне немногочисленных гласных (представителей) от крестьян назначал сам губернатор из числа кандидатов, предложенных ему земскими начальниками (помещиками!). Духовенство вовсе лишалось избирательных прав. Напротив, дворянская курия в земствах резко увеличивалась количественно – за счёт крестьянской.