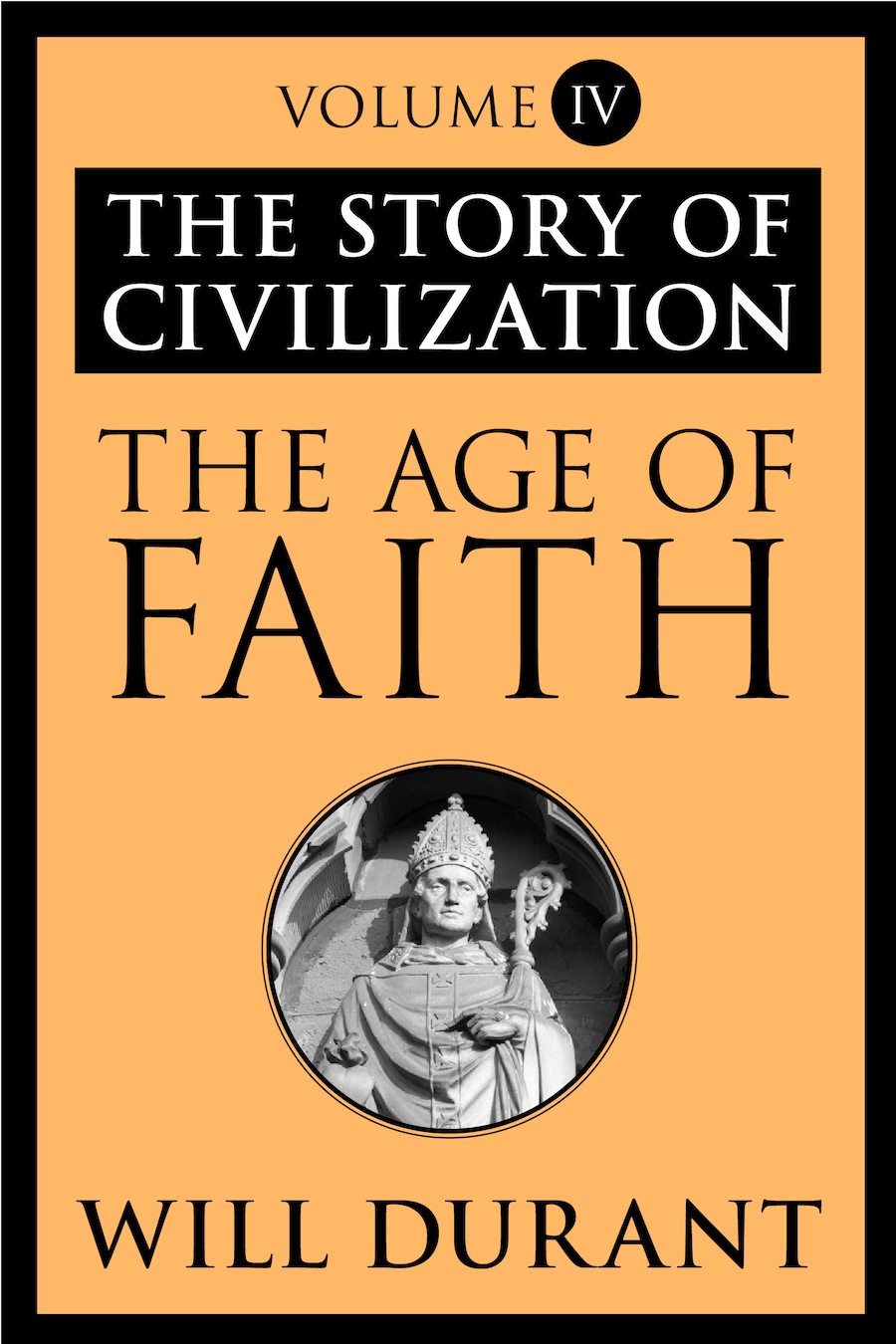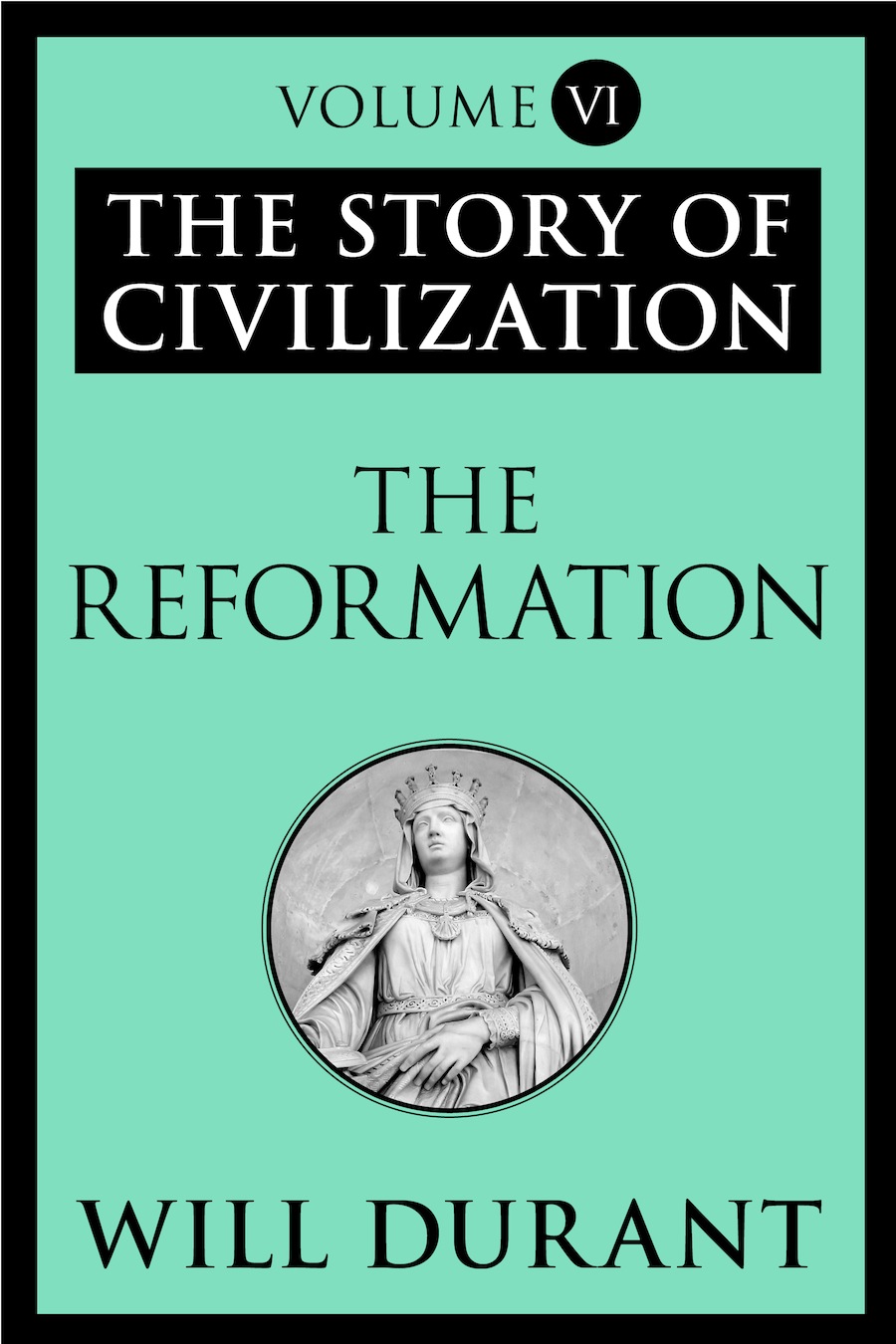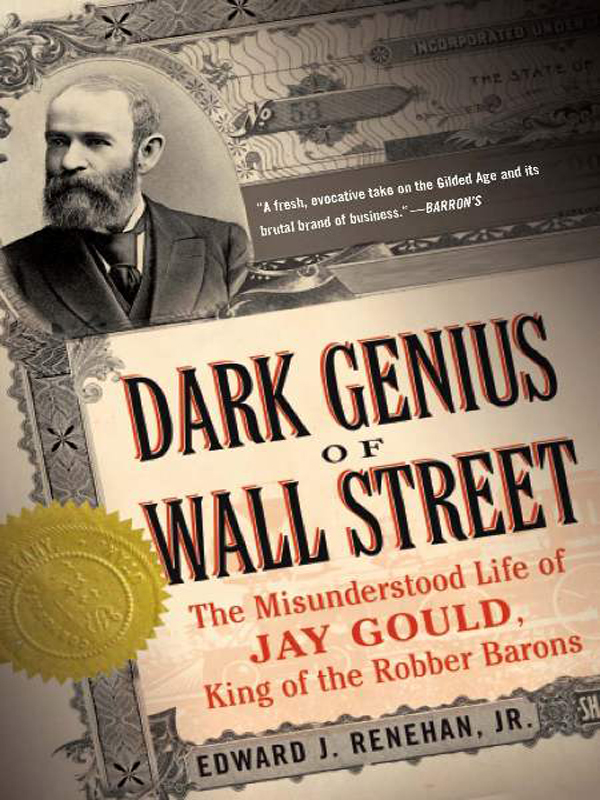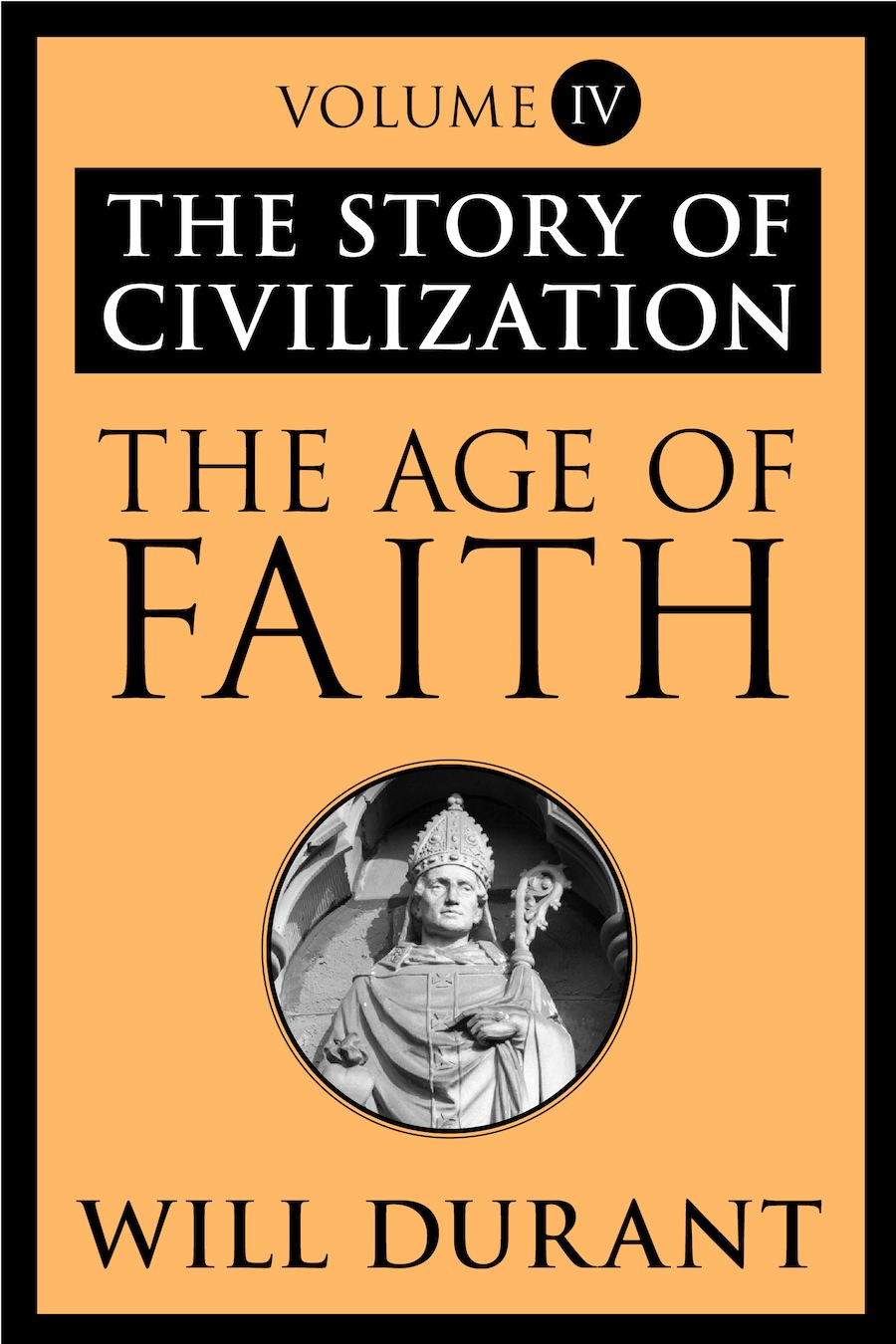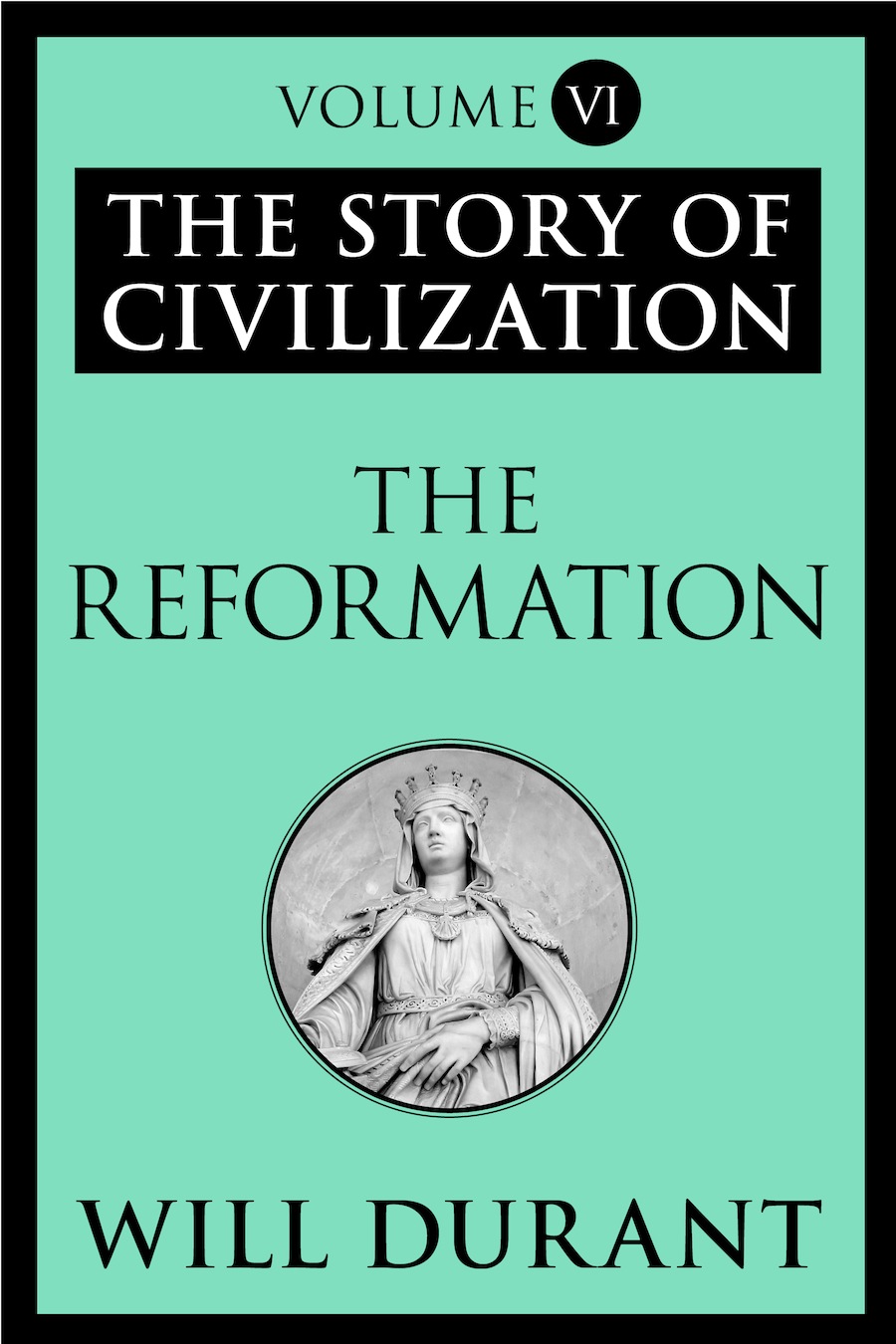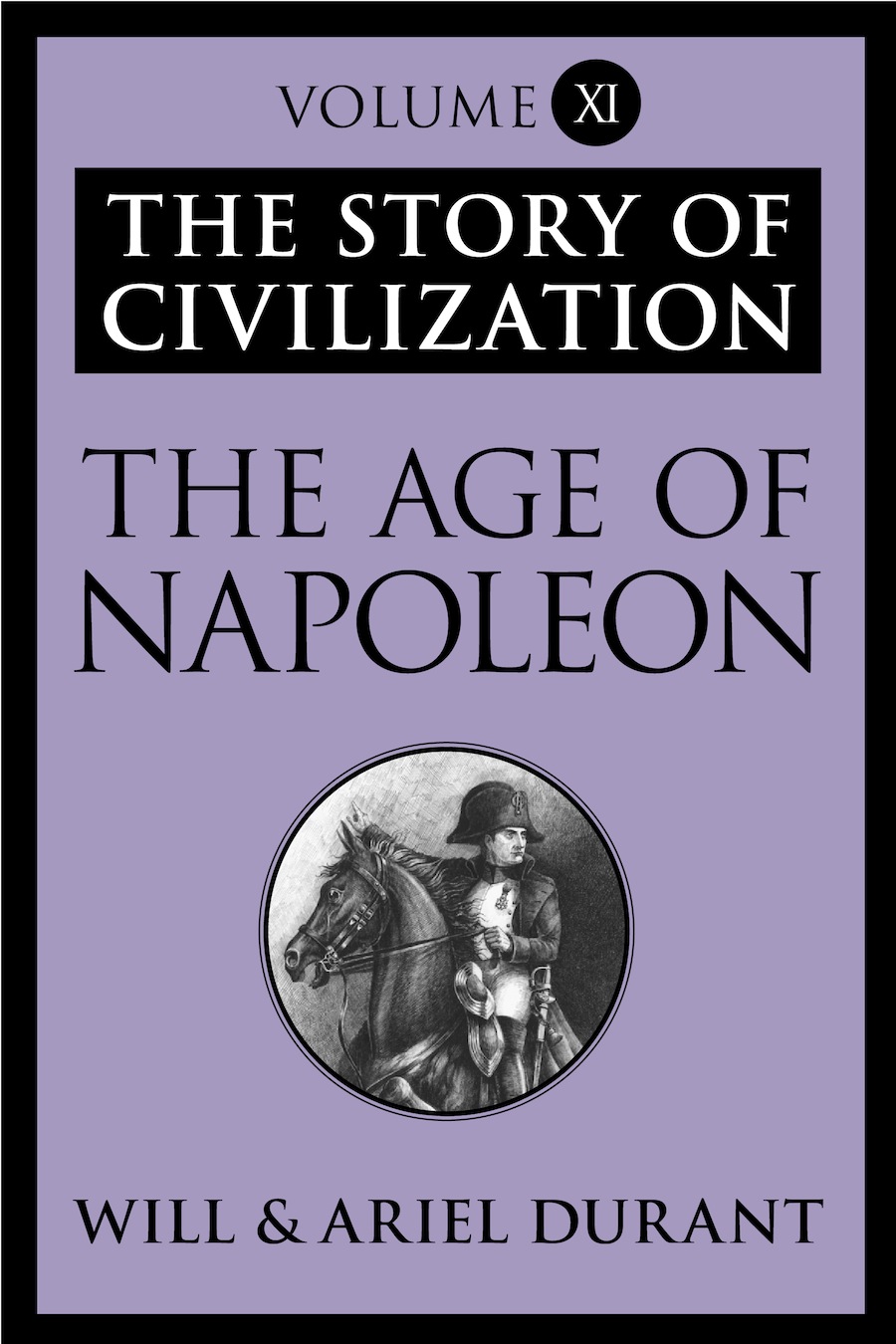представал перед миром с достоинством и гордостью, тщеславный чистотой своей врожденной крови и любивший добавлять свой род к своему имени.
В одном вопросе он не терпел возражений, и это была несравненная красота его женщин. Это была темная, яростная, всепоглощающая красота, достойная миллиона од, но краткая, с трагической поспешностью, свойственной жарким странам. До Мухаммеда и после него карьера арабской женщины проходила от минутного идолопоклонства до пожизненной каторги. По желанию отца ее могли похоронить при рождении;5 В лучшем случае он оплакивал ее появление и прятал лицо от своих товарищей; так или иначе, все его усилия не увенчались успехом. В детстве она получила несколько лет любви, но в семь или восемь лет ее выдали замуж за любого юношу из клана, чей отец предложил бы за невесту выкупную цену. Ее возлюбленный и муж готов был сражаться со всем миром, чтобы защитить ее честь и достоинство; некоторые из семян и рыцарских устоев отправились с этими страстными любовниками в Испанию. Но богиня была также и имуществом; она составляла часть имущества своего отца, мужа или сына и была завещана им; она всегда была служанкой, редко товарищем мужчины. Он требовал от нее много детей, вернее, много сыновей; ее обязанностью было производить на свет воинов. Во многих случаях она была лишь одной из его многочисленных жен. Он мог уволить ее в любой момент по своему желанию.
Тем не менее ее таинственные чары соперничали с битвой как темой и стимулом для его стихов. Домусульманский араб был, как правило, неграмотен, но поэзию он любил только рядом с лошадьми, женщинами и вином. У него не было ученых и историков, зато была пьянящая страсть к красноречию, к изящной и правильной речи, к замысловатому стиху. Его язык был близок к древнееврейскому: сложный в инфлексиях, богатый в словарном запасе, точный в дифференциации, выражающий то все нюансы поэзии, то все тонкости философии. Арабы гордились древностью и полнотой своего языка, любили перекатывать его плавные слоги в ораторских расцветах на языке или пером и с напряженным экстазом слушали поэтов, которые в деревнях и городах, в пустынных лагерях или на ярмарках вспоминали им, в бегущих метрах и бесконечных рифмах, любовь и войны своих героев, племен или королей. Поэт был для арабов их историком, генеалогом, сатириком, моралистом, газетой, оракулом, призывом к битве; и когда поэт получал приз на одном из многочисленных поэтических конкурсов, все его племя чувствовало себя польщенным и радовалось. Каждый год на ярмарке в Указе проводился величайший из этих конкурсов; почти ежедневно в течение месяца кланы соревновались через своих поэтов; не было никаких судей, кроме жадно или презрительно слушающих толп; победившие стихи записывались блестящими иероглифами, поэтому их называли Золотыми песнями и хранили как реликвии в сокровищницах принцев и королей. Арабы называли их также муаллакат, или подвешенные, потому что, по легенде, призовые стихи, написанные на египетском шелке золотыми буквами, были развешаны на стенах Каабы в Мекке.
От тех доисламских времен сохранилось семь таких муаллакатов, датируемых шестым веком. Их форма — касыда, повествовательная ода в сложном метре и рифме, обычно о любви или войне. В одной из них, написанной поэтом Лабидом, солдат возвращается из похода в деревню и дом, где он оставил свою жену; он находит свой домик пустым, его жена ушла с другим мужчиной; Лабид описывает эту сцену с нежностью Голдсмита, но с большим красноречием и силой.6 В другом случае арабские женщины подстрекают своих мужчин к битве:
Мужество! Мужество! Защитники женщин! Поражайте острием своих мечей!..Мы — дочери утренней звезды; мягкие ковры стелются под нашими ногами; наши шеи украшены жемчугом; наши локоны благоухают мускусом. Храбрецов, противостоящих врагу, мы прижмем к груди, а негодяев, убегающих, мы отвергнем; не для них наши объятия!7
Неприкрытая чувственность — ода Имру'лкейса:
Прекрасна была и другая, та, что скрыта вуалью, как близко, как охраняема! И все же она приветствовала меня.
Я прошел между ее шатрами, хотя ее ближайшие родственники лежали в темноте, чтобы убить меня, все они были проливателями крови.
Я пришел в полночь, в час, когда Плеяды, как звенья жемчужин, скрепляли небесный пояс.
Войдя внутрь, я замер. Она сбросила с себя все халаты, кроме одного, все, кроме ночного одеяния.
Она нежно выругалась: Что это за хитрость? Говори, клянусь тебе, безумец. Звездочка — это твое безумие.
Прошли мы вместе, а она потянулась за нами по нашей сдвоенной дорожке, чтобы спрятать его, мудрого, свои вышивки,
Ушли за пределы лагерных костров. Там в охранной темноте на песке мы улеглись вдали от посторонних глаз.
За косы я ее завлекал, приближал ее лицо к себе, завоевывал ее талию, хрупкую, с кольцами на лодыжках.
Она была прекрасна лицом — без красноты, с благородным лицом, с гладкой, как стекло, грудью, обнаженной ожерельями.
Так жемчужины, еще девственные, видны сквозь темную воду, прозрачные в морских глубинах, сверкающие, чистые, недоступные.
Кокетливо отводит ее, показывает нам щеку, губу, она — газель Вуджры;….
Как у розы, горло ее стройное, белое, как у ариэль, гладкое, к губам твоим приподнятое — жемчуг украшает его.
На ее плечи упали густые локоны, темные, как финиковые гроздья, свисающие с пальмовых ветвей….
Тонкая талия — колодезному шнуру не хватает стройности. Ноги ее гладкие, как стебли тростника, раздетые на берегу водоема.
Утром она спит, вязнет в навозе, едва в полдень встает, надевает дневной наряд.
Мягкие прикосновения ее пальцев — рифленые, как водяные черви, гладкие, как змеи Тобьи, зубастые, как палочки Ишали.
Освещает она ночную тьму, да, как вечерний светильник, что висит в отшельническом скиту для напутствия одиноких.8
Доисламские поэты исполняли свои произведения под музыкальное сопровождение; музыка и поэзия были связаны в единую форму. Излюбленными инструментами были флейта, лютня, тростниковая труба или гобой, а также тамбурин. Поющих девушек часто приглашали для развлечения мужчин-банкетчиков; ими были укомплектованы таверны; цари Гассанидов держали труппу для облегчения