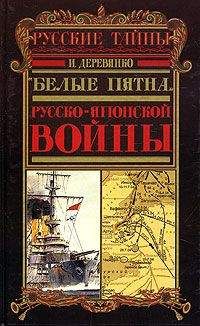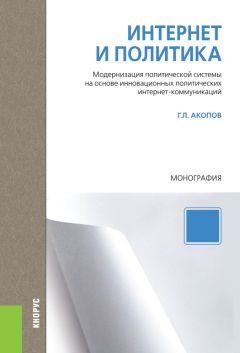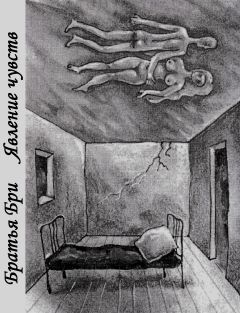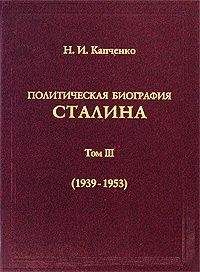Решения как общего собрания, так и частных присутствий вступали в силу только после высочайшего утверждения. Впрочем, в описываемый период все решения Военного совета утверждались быстро. Как правило, либо в тот же день, либо на следующий.
В этом можно убедиться, когда, изучая архивные документы, сравниваешь даты поступления бумаг к императору и даты утверждения их Николаем II. Вот уж где не было ни малейшей волокиты!
Теперь следует сказать о Канцелярии Военного министерства, образованной в 1832 г. Канцелярия занималась предварительным рассмотрением законодательных актов и разработкой общих распоряжений по министерству. Там же составлялись «всеподданнейшие доклады», рассматривались денежные и материальные отчеты главных управлений и начальников военных округов, через нее производилась текущая переписка по делам министерства[39].
В период Русско-японской война пост начальника Канцелярии занимал генерал-лейтенант А. Ф. Редигер. После назначения Редигера военным министром его место занял генерал-лейтенант А. Ф. Забелин.
Верховной судебной инстанцией для чинов военного ведомства являлся Главный военный суд. Структура, функции и порядок его работы определялись Военно-судебным уставом 1867 г.
Отдельными отраслями деятельности Военного министерства ведали соответствующие главные управления. Всего их было 7: артиллерийское, инженерное, интендантское, военно-медицинское, военно-судное, военно-учебных заведений и управление казачьих войск.
В обязанности Главного артиллерийского управления, которому непосредственно подчинялись артиллерийские управления военных округов, входило снабжение войск и крепостей предметами вооружения, боеприпасами и т. д. Управление контролировало работу казенных оружейных заводов. Состояло оно из семи отделений, мобилизационной, судной, канцелярской частей и архива. Возглавлял управление генерал-фельдцейхмейстер великий князь Михаил Николаевич, а непосредственное руководство осуществлял его помощник – генерал-майор Д. Д. Кузьмин-Короваев[#].
Снабжением войск и крепостей инженерным, автомобильным, телеграфным и воздухоплавательным имуществом занималось Главное инженерное управление, которому непосредственно подчинялись окружные и крепостные инженерные управления и которое в описываемый период возглавлял генерал-инспектор по инженерной части великий князь Петр Николаевич. В функции управления входили также строительство казарм, крепостей, укрепленных районов, организация научно-исследовательской работы в области транспорта и т. д. В управлении хранились генеральные планы и описания всех крепостей и укреплений империи. В его ведении находились Николаевская инженерная академия и кондукторский класс.
Руководство снабжением войск продовольствием, фуражом и амуницией осуществляло Главное интендантское управление. Ему непосредственно подчинялись окружные интендантские управлении, которые занимались заготовками вещевых и продовольственных запасов для войск. В период Русско-японской войны пост главного интенданта Военного министерства и начальника Главного интендантского управления занимал генерал-лейтенант Ф. Я. Ростковский.
Делопроизводство по делам Главного военного суда и распорядительная часть военно-судного ведомства находились в ведении Главного военно-судного управления[40]. В период Русско-японской войны Главным военным прокурором и начальником ГВСУ был генерал-лейтенант Н. Н. Маслов. В конце войны Маслова заменили генерал-лейтенантом В. П. Павловым[#].
Управление состояло из канцелярии и 5 делопроизводств, которые занимались военно-судным законодательством, делопроизводством и судопроизводством, пересмотром приговоров военных судов, политическими и уголовными делами в военном ведомстве, рассмотрением жалоб и ходатайств военной и гражданской администрации, а также частных лиц. В ведении управления находилась Александровская военно-юридическая академия и военно-юридическое училище[#].
Вопросами медицинского обслуживания армии, укомплектованием штатов военно-врачебных заведений и снабжением войск медикаментами занималось Главное военно-медицинское управление, возглавляемое главным военно-медицинским инспектором, лейб-медиком двора Е. И. В., тайным советником Н. В. Сперанским. При управлении находилась Военно-медицинская академия, готовившая кадры армейских врачей. Ему непосредственно подчинялись: Завод военно-врачебных заготовлений и окружные медицинские инспекторы со своим штатом.
Военно-учебными заведениями руководило Главное управление военно-учебных заведений. В его ведении находились пехотные и кавалерийские училища, кадетские корпуса, юнкерские училища, школы солдатских детей войск гвардии и т. д. Во главе управления в описываемый период стоял великий князь Константин Константинович[#].
Военным и гражданским управлением казачьих войск занималось Главное управление казачьих войск, возглавляемое генерал-лейтенантом П. О. Нефедовичем. Во время войны ГУКВ иногда выступало в качестве посредника между казачьими войсками и другими главками Военного министерства[#]. При министерстве находилась Императорская Главная квартира ИУК, возглавляемая генерал-адъютантом бароном В. Б. Фредериксом. Она делилась на две основные части: Личный Императорский конвой (во главе с бароном А. Е. Меендорфом) и Военно-походную канцелярию (во главе с флигель-адъютантом графом А. Ф. Гейденом). По Управлению Личным Императорским конвоем командующий ИГК исполнял обязанности и пользовался правами командира дивизии, корпусного командира и командующего военным округом. В период 1-й русской революции Военно-походная канцелярия координировала все карательные экспедиции[#].
Одним из самых больных вопросов для военного ведомства России был бюджет. Ассигнования на армию стали постепенно сокращаться еще со времен окончания войны 1877—1878 гг., а с 90-х годов XIX в. по инициативе министра финансов С. Ю.Витте началось резкое сокращение всех военных расходов. Военный министр П. С. Ванновский получил высочайше возложенное поручение: «Принять безотлагательно меры по уменьшению военных расходов...»[41] Меры были приняты. Если в 1877 г. военные расходы России по отношению ко всем прочим расходам государства составляли 34,6% и Россия в этом отношении занимала среди европейских стран 2-е место после Англии (38,6%)[42], то в 1904 г. военные расходы России составляли всего 18,2% от государственного бюджета[43].
В росписи государственных расходов на 1904 г. Военное министерство, которому было выделено 360 758 092 руб., стояло на 3-м месте после Министерства путей сообщения (473 274 611 руб.) и Министерства финансов (372 122 649 руб.)[44].
Столь поспешное и непродуманное сокращение военного бюджета не лучшим образом отразилось на Вооруженных силах России вообще и Военном министерстве в частности. Во «Всеподданнейшем докладе» за 1904 г. по этому поводу говорилось следующее: «Существующие недостатки организации и снабжения нашей армии являются прямым следствием недостаточности ассигнований, уделявшихся ей со времен войны с Турцией. Ассигнования эти никогда не сообразовывались с действительными потребностями»[45].
Недостаток финансов пагубно сказывался не только на развитии военной техники, снабжении армии, разведке и т.п. (о чем еще пойдет речь в последующих главах), но также на довольствии солдат и заработной плате офицеров. Денежное довольствие солдатам производилось по окладам, установленным в 1840 г., и при растущей дороговизне давно не удовлетворяло их даже самым насущным потребностям[#]. Не лучшим образом обстояли дела с заработной платой офицеров. Скажем, поручик пехоты получал около 500 руб. в год, причем в отличие от солдата был вынужден питаться за свой счет. Низкий уровень жизни офицерства являлся причиной значительной утечки кадров из военного ведомства. Правда, в начале 90-х годов XIX в. Военному министерству удалось несколько увеличить содержание офицерам и классным чиновникам и таким образом приостановить на время массовый отток наиболее способных и квалифицированных людей с воинской службы. Однако из-за яростного сопротивления министра финансов С. Ю.Витте реформа была проведена лишь частично. Да и вообще любая попытка увеличения военных ассигнований в мирное время встречала бешеный отпор со стороны министерства финансов.
Впрочем, это неудивительно. Напомним: масон Витте, по его собственному признанию, боялся военного усиления России, «быстрых и блестящих русских успехов». Кроме того, стараниями его многочисленных подельников в народ усиленно внедрялась мысль, что военное ведомство и без того финансируется чересчур хорошо. Способы применялись самые разные. От словесной и печатной до наглядной агитации. Последняя особенно обнаглела после печально знаменитого Манифеста 17 октября. Так, в одном из левых журналов за 1905 г. можно увидеть злую карикатуру, на которой изображены военные, хищнически растаскивающие государственный бюджет[46] 2. С. 8>. И подобным примерам несть числа! Изучив на основе периодических изданий тех лет общественное мнение, убеждаешься – многие поверили этой лжи.