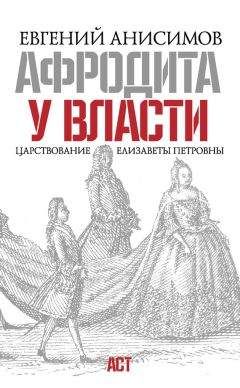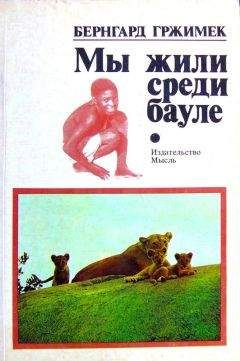Ознакомительная версия.
Этому визиту предшествовала довольно любопытная история. 29 июня 1762 года, на следующий день после свержения Петра III, Екатерина распорядилась вывезти Ивана Антоновича, названного в указе «безымянным колодником», в Кексгольм, а в Шлиссельбурге срочно «очистить самые лучшие покои и прибрать по известной мере по лучшей опрятности». Нетрудно догадаться, что у Екатерины было намерение поместить в Шлиссельбурге нового узника, очередного экс-императора, Петра III. Майор Савин в начале июля вывез «безымянного колодника» в Кексгольм на судне, но бурная Ладога как всегда внезапно проявила свой нрав — в тридцати верстах от Шлиссельбурга судно разбилось, узника, которому завязали голову тряпкой, на руках вынесли на берег, и всей экспедиции пришлось ждать помощи из Шлиссельбурга. В Кексгольме бывший император прожил месяц, тут как раз произошло убийство другого свергнутого императора, Петра III, в Ропше, и надобность везти его в Шлиссельбург отпала, его путь теперь пролегал в Александро-Невскую лавру — усыпальницу для опальных и второстепенных членов царской семьи.
Нет сомнения, что молодой человек с тонкой белой кожей (его никогда не выводили на свежий воздух и солнце), с длинной рыжей бородой, придававшей ему, по словам очевидца, «дикий и грубый вид», производил неожиданно тяжелое впечатление на своих высоких визитеров. Их, вероятно, поражало разительное противоречие между абстрактным представлением об экс-императоре Всероссийском Иоанне III Антоновиче, которое они имели в своем сознании, и тем человеком, которого они видели в убогой камере одетым в какое-то рубище простолюдина. При этом визитеры замечали, что он был, хотя и бедно одет, но оставался чистоплотен, аккуратен, заботился о чистоте своей постели и белья и требовал от охраны замены обветшавших и худых вещей.
Лишенный всякого воспитания, Иван вырос нервным, легковозбудимым человеком, быстро переходившим на крик и ругань «с великим сердцем», особенно когда ему не верили или оспаривали его мнение. «Он весьма сердитого, горячего и свирепого нрава был и никакого противоречия не сносил», — рассказывали на следствии Власьев и Чекин. К тому же узник страшно заикался, и, как писали охранники, «косноязычество, которое, однако, так чрезвычайно действительно было, что не токмо произношение слов с крайнею трудностию и столь невразумительно производил, что посторонним почти вовсе, а нам, яко безотлучно при нем находившегося, весьма трудно слов его понять можно было, но еще для сего крайно невразумительного слов производства подбородок свой рукою поддерживать и кверху привздымать, потому принужденным находили, что без того и произносимых слов хоть мало понятными произвесть был не в состоянии».
Характерна и его типичная для поведения одиночных арестантов манера быстро бегать по камере и, углубившись в свои мысли, что-то непрерывно бормотать себе под нос. Как писали Власьев и Чекин, «во время расхаживаньев часто без всякой причины вдруг, рассмеиваясь, хохотал и, словом, всякие безумия изъявлял». Они же сообщали далее: «Невзирая на чрезвычайное косноязычество и крайнейшее его трудности произношение, такую страсть к содержанию разговоров имел, что беспрестанно и, не имев ни малейшего повода, сам вопросы себя чиня и ответствуя, говорил такие коловратные слова, что всякому человеку себе вообразить весьма трудно было».
Важно заметить, что сведения о сумасшествии Ивана идут преимущественно от офицеров охраны и их начальников. Вот образчик «диагноза» упомянутого Овцына и его методы «лечения» арестанта: «Арестант, кроме безумств, здоров, только часто беспокойствовал, а особливо с прапорщиком, однако ж всякими угрозами и способами я его от того унял: не давал ему несколько дней чаю пить, также не давал ему чулок крепких, а носил он совсем изорванные, почему ноне стал быть совсем смирен» [516]. А вот окончательный «диагноз» убийц Ивана Антоновича: «В таком бессчастном лишении разума, понятия, памяти и настоящего с различиванием чувств состоянии находился он с самого нашего к нему определения даже по день кончины, так что ни одного часа, ниже дня, не помним, чтоб от него хоть малейший признак бесповрежденного разума приметить можно было» [517]. Все это несомненная ложь, которую легко разоблачить, читая донесения начальника охраны секретного узника Овцына своему начальнику А.И. Шувалову.
Охранники были не большими специалистами в психиатрии, чем сановники, распространявшие слухи об узнике. Представление о сумасшествии или слабоумии Ивана Антоновича широко внедрялось среди иностранных дипломатов. Английский посланник писал в 1764 году о секретной беседе с графом Паниным, который не раз виделся с арестантом и только для посланника (и соответственно — для английского правительства) «раскрыл тайну» бывшего императора: «Ему случалось в разные времена видеть принца…, он всегда находил его рассудок совершенно расстроенным, а мысли его вполне спутанными и без малейших определенных представлений. Это совпадает с общим мнением о нем, но сильно расходится с отзывом, слышанным мною насчет подобного свидания его с покойным императором Петром III. Государь этот… заметил, что разговор его был не только рассудителен, но даже оживлен». В самом деле, разговор Ивана с Петром III, изложенный выше, да и другие сведения не свидетельствуют в пользу версии об узнике-безумце.
Понятно, что представить Ивана сумасшедшим было выгодно власти. С одной стороны, это оправдывало суровость его содержания — ведь тогда психически больных за людей не признавали, держали в тесных «чуланах» в цепях или в дальних монастырях, где заставляли делать «черную работу». С другой стороны, это в какой-то степени оправдывало его возможное самоубийство или убийство: психически больной себя не контролирует, способен наложить на себя руки, а может и легко стать игрушкой в руках авантюристов.
После убийства Ивана Антоновича Екатерина II писала в своем манифесте, что она приехала на встречу с арестантом, чтобы увидеть принца и, «узнав его душевные свойства, и жизнь ему по природным его качествам и воспитанию определить спокойную». Но ее якобы постигла полная неудача, ибо «с чувствительностью нашею увидели в нем, кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, лишение разума и смысла человеческого». Он «рассудка не имел доброе отличить от худого, так как и не мог чтением книг жизнь свою пробавлять». Поэтому, сочла государыня, никакой помощи несчастному оказать невозможно, и «не оставалося сему несчастнорождненному, а несчастнейше еще взросшему, иной помощи учинить, как оставить его в том же жилище».
Вывод императрицы о безумии Иванушки делался не по заключениям врачей, а по донесениям охраны и на основании своего впечатления. Известно, что профессиональный врач к Ивану Антоновичу был допущен только один раз, но его заключение о здоровье арестанта осталось неизвестным. Конечно, сомневаясь в компетентности и объективности тюремщиков, Никиты Панина, императрицы Екатерины, мы должны помнить, что двадцатилетнее заключение не могло способствовать развитию личности несчастного узника. Человек не котенок, который даже в полной изоляции вырастет котом. Для личности Ивана жизнь в одиночке под постоянным надзором и то, что врачи называют «педагогической запущенностью», оказались губительны. Он не был ни идиотом, ни сумасшедшим, каким представляет его официальная версия властей, но его жизненный опыт был деформированным и дефектным из-за тех ограничений, которые на него накладывали тюремщики, из-за той жизни в четырех стенах, которую он вел два с половиной десятилетия.
В доказательство безумия Ивана тюремщики писали о его неадекватной, по их мнению, реакции на действия охраны: «В июне {1759 года} припадки приняли буйный характер: больной кричал на караульных, бранился с ними, покушался драться, кривлял рот, замахивался на офицеров». Между тем известно из других источников, что офицеры охраны наказывали арестанта — лишали чая, теплых вещей, наверно, и бивали втихомолку за строптивость и уж наверняка дразнили, как собаку. Об этом есть сообщение Овцына, писавшего в апреле 1760 года: «Арестант здоров и временем беспокоен, а до того его доводят офицеры (Власьев и Чекин. — Е.А.), всегда его дразнят» [518]. Для Ивана охранники были мучителями, которых он ненавидел, и его брань была естественной реакцией психически нормального человека. Проявления «безумия», вообще неадекватного поведения у Ивана Антоновича объяснимы почти исключительно теми скверными отношениями, которые у него сложились с Власьевым и Чекиным. Как уже сказано выше, они находились при нем неотлучно, поочередно и вместе ночевали в камере арестанта, при этом всячески его унижали и высмеивали. Овцын писал 25 сентября 1759 года, что «они его дразнят и, как я из казармы выйду, то они чем-нибудь ему тем, чего он по безумию своему не любит, досаждают», иначе говоря, дразнили его «императором» или «принцем». Для конфликта этих ненавидевших друг друга людей было достаточно какой-то мелочи: «А сего месяца 1-го числа с прапорщиком была ссора: арестант, сидя, кашлянул, а прапорщик ему сказал, для чего кашляет. На что арестант его выбранил, потом взяли один против другого скамейку и стул» [519].
Ознакомительная версия.