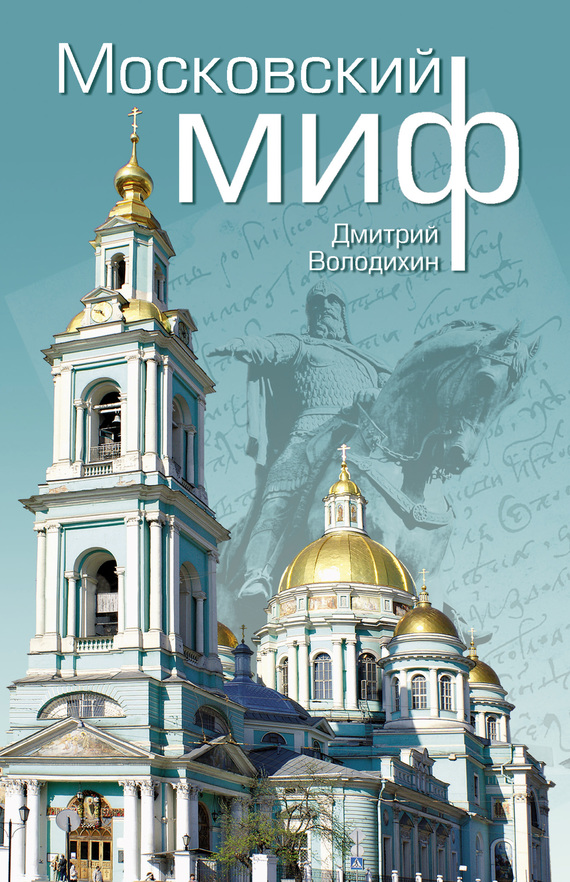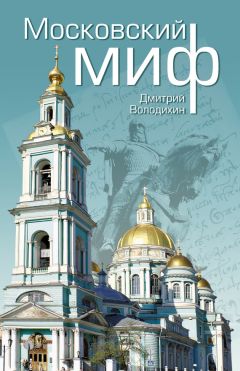для частного проживания в нем, сколько для выполнения общественных, а еще более государственных административных функций и выращенный искусственным путем в некогда безжизненных просторах непроходимых финских болот, – пишет Синдаловский, – Петербург едва ли не с основания превратился в безупречную чиновничью бюрократическую машину, в безотказный, хорошо отлаженный бездушный аппарат по выработке указов, распоряжений, предписаний, инструкций и директив… Но одновременно с этим постоянно сжимающаяся пружина такой всеобщей казенщины провоцировала в общественном сознании и обратную реакцию, которая выкристаллизовывалась во внутреннюю свободу духа и полет фантазии. В истории официальной духовности это в конце концов вылилось в то, что именно Петербург, несмотря на подавляющие признаки казарменности, стал подлинной колыбелью золотого века русской литературы, музыки, живописи, а в неофициальной, народной, низовой культуре – в живом интересе к городскому фольклору, в том числе к мистическим легендам о городских призраках и привидениях, метафизическая ирреальность которых каким-то невероятным образом уравновешивала и облегчала бремя повседневного реального существования… Упоминания об обитателях потустороннего Петербурга в городском фольклоре появились рано. Таинственные рассказы о неожиданном появлении первых городских призраков, безымянных болотных кикимор, чертенят в человеческом образе с рогами и копытами, шепотом передавались из уст в уста. В народе их появление связывалось с пугающими предсказаниями о скором конце Петербурга и потому решительно пресекалось властями».
И вот призраки, бесы, кикиморы решительно полезли из городской канализации, обещая особенную, холодом пронизывающую духовность, погружение в созидательную тьму… Какая тут истина? Одно лишь соблазнительное лукавство.
Эта ставка – худшая из возможных. Сделать из Санкт-Ленинбурга город-сфинкс нетрудно. Но ведь это опять миф, концентрирующий ненависть, фильтр-негатив. А ижорский гранит еще не короновали, и ненависти к нему нет. Следовательно, улавливать нечего. Любви же такой миф не прибавит: что тут любить? Провалы в ад посреди града Петрова? Подземное царство, со всем тамошним жаром и со всем тамошним холодом любят лишь идиоты, мазохисты и сатанисты. «Черный пес Петербург»? Кабысдох…
И прямо противостоит Петербургу Андрея Столярова иной идеал – нарисованный Анной Ветлугиной в повести «Направление льва» образ «интеллигентного христианства», пробивающегося в СПб. сквозь толщу темных мистических напластований и великой гордыни. Оно не обещает погружений в инфернальное величие. Оно тихо, но взыскательно: требует веры, любви и труда. Ни в какой миф встроить его невозможно. Скорее, в нем можно увидеть идеальную противомифовую мину.
Совсем иначе, нежели у Столярова, выглядит и «Петербург Елены Хаецкой». Ни холода, ни мрака, ни мрамора, ни гранита. Квартирки, квартальцы, компании милых чудаков, кобель, роющийся в помойке, церковки и люди, принципиально снятые Хаецкой с котурн. Они веселятся и печалятся, выдумывают себе приключения и с трудом вылезают из приключений настоящих, горюют от бедности, строят планы на авось, мечтают о лучшем будущем, но не спешат окунуться в лихорадочную деятельность по его приближению. Время от времени не без гордости поминают хипповую молодость, уважают красивые фенечки и бескорыстие, но обратно к «Сайгону» возвращаться не хотят. Они бедны. И если кто-нибудь делается богат, то это скверный человек. Богачи у Хаецкой, как правило, скверны, грязны. А бедность морозит и обдирает бока, но все-таки позволяет оставаться человеком… Они ставят любовь выше всего на свете. Они бродят по улицам и скверам, затопленным туманами, натыкаются на дома, то всплывающие в нашей реальности, то исчезающие из нее. Могут набрести на пришельцев из иных миров или даже на мистических существ и познакомиться с ними запросто: Петербург Хаецкой не удивляется странным гостям, он сам большой оригинал и великий коллекционер чужих странностей… Он готов миролюбиво и даже с интересом отнестись к любому чудачеству, хотя бы оно произошло и прямо посреди улицы. Петербург Хаецкой – пестрота мелочей, маленьких неправильностей и верных поступков, дающихся немалым трудом. Он сыроват, этот город, но всё же стократ уютнее хоррор-экстрима в исполнении Андрея Столярова и пр. Там, у Хаецкой, теплее.
Вот только в фундамент «столичности» ряд образов, созданных ею, положить невозможно: они и в сумме, и по отдельности бесконечно далеки от «большого стиля». Собственно, Хаецкая к нему никогда и не стремилась приблизиться, это совсем не ее амплуа. «Петербург Хаецкой» убрел от начальства, рассеялся по квартирам, дворам, лавкам, конторам маленьких фирм, по приватным компаниям, не очень-то допускающим к себе чужих. Он перестал быть частью Империи, поскольку люди, его населяющие, перестали чувствовать свою принадлежность Империи. Они – сами по себе. Они не умеют ходить строем, рваться к высотам карьеры, верить в предписания, полученные сверху. В Бога – да! Иногда. Но только не в циркуляры.
И это – прекрасный миф для людей с левыми убеждениями. Пронзительно честный и очень локальный. Его будут воспринимать как родное – немногие, его будут любить – некоторые, им будут интересоваться тысячи и тысячи людей. Но он вряд ли когда-нибудь вырастет до размеров образа, воспринимаемого Россией как обобщенная картина града Петрова.
Итак, мимо.
Настоящего сильного мифа у Петербурга сейчас нет. «Добровольная блокада» – самое интересное из всего созданного современными питерскими интеллектуалами. Время покажет, станет ли этот ответ на «вызов извне» новым мифом, если сам вызов потеряет силу.
Но, если не пытаться втащить его на политический Монблан, может, вновь само собой вырастет нечто красивое, способное приковывать к себе души по всей стране.
«Отпрыск России, на мать не похожий…» Санкт-Петербург как символ Империи
С XVIII века в России продолжается диалог двух городов, поочередно носящих державный венец столицы. Москва и Петербург давно привыкли оппонировать друг другу. И в сознании миллионов образованных людей их спор представляет собой символическое противостояние двух периодов русской истории, более того, двух маршрутов исторического развития. Двигаясь от Москвы к Петербургу и обратно, страна выбирала не просто одну из точек на карте, она выбирала себе судьбу.
В 2012 году Россия отметила странную дату – трехсотлетие переноса столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Юбилей праздновался без той роскоши, с какою обставлялись торжества на 300-летие основания города. Фактически, он прошел едва заметно.
Что ж, отсутствие помпезных затей можно понять. Ведь дата эта очень условна: не существует указа Петра I, где бы шла речь о придании новому городу столичного статуса. Переезд важнейших правительственных учреждений тянулся на протяжении многих лет. Начался он приблизительно в 1710 году, а 1712-й отмечен в этом затяжном процессе важной вехой: Москву покинул царский двор и посольства нескольких западноевропейских держав. Здесь же, в недавно основанном портовом центре, постепенно создавались доселе невиданные ведомства. Положение главного правительственного средоточия после серьезных колебаний окончательно утвердилось за Петербургом лишь в 1730-х годах, при императрице Анне Иоанновне.
Иначе говоря,