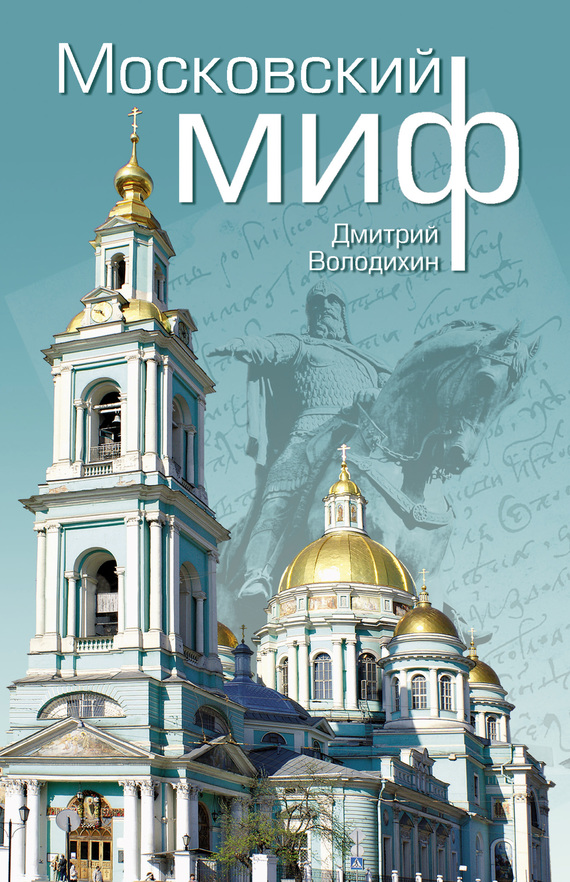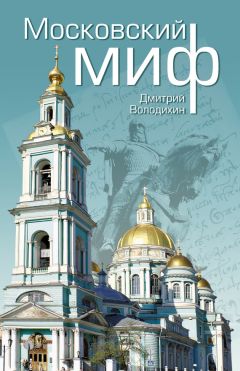брака.
С Москвой нелады, Москва ведь тоже женщина, а значит, соперница…
И вот рождается это. Со стихотворным бредом в голове, шпалами и маской. Жить рядом с таким существом трудно. Но приехать к нему и заглянуть в глаза нужно. Обязательно. Заглянуть. Хотя бы один раз.
Там – боль.
Город-призрак ищет новый миф
Пока Петербург был столицей, миф о «городе-призраке», холодном, наполненным злой мистикой, существующим на грани исчезновения – когда все каменные громады сгинут, и восторжествует архей чухонского болота – очень ему подходил. Словно пиджак, сшитый на заказ блистательным мастером.
В роли столицы Невский страж был чужой всем. И не только заемной душой своей отпугивал Россию, но и обликом, и чиновной сухостью, и даже ледяным блеском императорского двора. Болотная призрачность питерского мифа, вылепленная истинными умельцами русского слова, оттягивала на себя злость и раздражение, которые могли бы выплеснуться из реальности слов в реальность самой жизни. Вглядываясь в этот миф, образованный русский человек удовлетворенно говорил самому себе: «Ну-с, умные люди думают одинаково…» Паутина слов улавливала протуберанцы отторжения, которыми Русь то и дело выстреливала в сторону полночной столицы. А уловив, растворяла в стихии литературы.
Не диво: миф либо концентрирует любовь, либо концентрирует ненависть. Одно из двух. Но перехваченная любовь затем передается предмету любви многократно умноженной, а ненависть рассеивается в заоблачных высях образов, метафор, концептов: ей не позволяется толкать впечатлительных людей на «прямое действие». Причем миф, собирающий любовь, – как у Москвы – не защищает от ярости, злобы, недовольства. А миф, задерживающий ненависть, – как у Питера – никак не стимулирует проявления добрых чувств. Он просто работает в качестве своего рода словесного громоотвода.
Хуже всего, когда мифа вовсе нет. Ведь тогда нет ни позитивного, ни негативного фильтра…
Перестав быть столицей, Питер сделал попытку обзавестись мифом с противоположным знаком. Он начал медленное превращение в «столицу культуры», «плацдарм цивилизованной Европы в варварской России», «город мастеров, где процветает инженерно-техническая мысль» и, конечно, «колыбель революции» (что так нравилось советскому начальству). Иными словами, произошла смена образного ряда, рокировка знака. Попытка в высшей степени удалась.
В 20-х и 30-х годах это было до крайности затруднительно: страшный голод и экономическая слабость города лишили его повседневной суеты, пестроты, мельтешения толп, но… лишили и силы. Город стал чудо как хорош, слегка обветшав, освободившись от многолюдства и предоставив пустынные улицы матовой вате белых ночей; Ходасевич восхищался им; гул жизни исчез, история и архитектура обрели концентрированную четкость графических миниатюр; дома стали каменными драгоценностями – даже те, что были в эпоху стиля модерн дюжинными постройками… И лишь суетливое пролетарское начальство придавало нелепую, судорожную, лозунговую жизнь каменеющему телу города. Ему всё хотелось чего-то рабочереволюционного, октябреюбилейного. А город был слишком чужим, слишком дворцовым и слишком имперским, чтобы незамысловатая краснота выглядела в нем органично. Местные интеллектуалы чувствовали, как витает над мостовыми дух классической старины, слушали дома и дворцы, вещающие о величественном прошлом, видели призраки поэтов пушкинской эпохи, расхаживающих по набережным, ощущали холод безжалостного моря, затопляющего град Петров штыками красногвардейцев и декретами комиссаров, но… сам город в его целостности видеть перестали. Миф строился. Строительного материала не хватало. Отпылало зарево Великой Отечественной, люди опомнились от гибельного удара блокады, город наполнился новым населением и оно – именно оно! – довершило большую культурную работу: новый миф сошел со стапеля. Город плац-парадов, табачных трубок и портовой ржави обернулся меккой для советской интеллигенции. Триумфальный успех!
Став городом-музеем для приезжих, Ленинбург по-прежнему оставался городом-призраком для своих. Как будто в детстве они… то ли получали какое-то темное посвящение, то ли заражались страшной болезнью, и все вместе знали нечто тайное, храня эту тайну от белого света.
Нынешний коренной ленинбуржец редко уходит корнями в чухонский мрамор ниже третьего поколения. Он либо приезжий, либо сын, реже – внук приезжих. Но он приобщился к тайне черных вод, стиснутых гранитом, и он – хранитель знания о древних фантомах, выходящих из иного мира на площади и переулки Северной Пальмиры. С таким знанием он мог удалиться от начальства, смотреть с презрением на начальство, чувствовать, что понимает куда больше в семантике города, нежели начальство, нервно сующееся в дворцовую Ингрию со своей общесоюзной ерундой. И он по большому счету был прав в своей оппозиционности. Ведь такая оппозиционность возвышала культуру города над культурой страны. Сюда ездили «приобщиться к высокому». Вдохнуть классику, взяв по щепоти из серебряных табакерок. Город не столько противостоял стране, сколько возвышался над нею, звал в какой-то прекрасный, неосуществимый мир. Город играл роль утонченной прелести, томившей души приезжих и питавшей души местных. Ужели не прекрасен он был? Кто посетил его в 70-х или 80-х и не поддался тамошней мистике, чья душа не вострепетала у порогов тайного, тот бревно.
Аккуратный бриллиант Норд в короне дряхлеющей империи был печальным чудом, пусть и не хватало этому чуду прямого солнечного света.
Старичок из Политбюро с натренированными губами брежневского фасона, косноязычный, слегка малоумный от возрастных причин, слегка малограмотный из-за общесоциальных причин, с серпом и молотом в башке и – Эрмитаж. И – новая Голландия. И – арка Генштаба. Как тут не сделаться вольномыслящим интеллектуалом, оппозиционером, притом не из политических причин, а из чистой брезгливости? Город-музей строго поджимал губы… поджимал…
А потом страна опять взорвалась.
Вот только… в 90-х Москва присвоила себе всё, забрав среди прочего и титул «столица культуры». В действительной столице так много восстанавливали старину, так вложились в музеи, столько сил и средств отдали театру, литературе, страстям интеллектуальных дискуссий, что питерские дворцы уже не могли это перевесить… Сыграло свою роль и то, что массмедиа концентрируются на Москве, ибо она – центр. А значит, и всякое культурное явление в Москве имеет в пять раз больше шансов оказаться на ТВ-экране, чем ровно то же самое, но питерское… Инженеры и всяческая техника упали в глазах масс неадекватно низко, страшно низко, губительно для страны. И в общей купели падения мертвеющий «северный предел» державы потерял то, что потеряли все.
Революция превратилась для большинства в антиценность. Ныне оппозиция подсчитывает шансы «национальной революции», т. е. революции русских против всех остальных, от чего упаси, Господь. И кабы «невский страж» был русским городом, то именно там новая революция имела бы шанс начаться. Но… «отпрыск России, на мать не похожий, бледный, худой, евроглазый прохожий» выглядит хуже некуда в качестве центра борьбы за чистоту крови.
Что осталось? Русская Европа? Да в настоящую съездить дешевле станет…
Развеялся тот старый добрый миф.