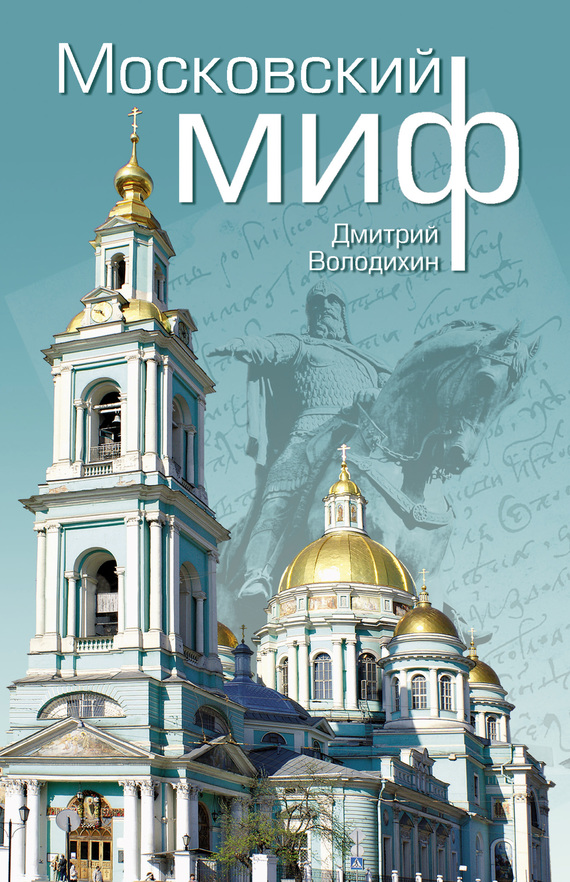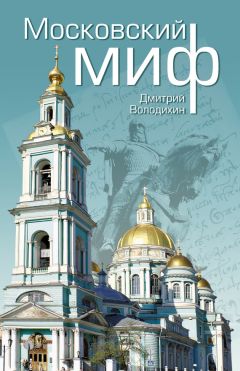Его уж нет. Нет великого города-музея, есть город музеев. Не осталось города – хранителя тайны, ибо он не столько второй в державе, сколько первый среди провинциалов. Не та роль.
И вдруг повеяло шепотками: «Столичный мундир вернут на Неву… Слышали? Скоро-скоро. Уже приказ подписан. А как же? Главные люди в стране – оттудашные. “Питерские” же всем вертят, да? Понима-ают». Интеллектуалитет Ингрии воспрянул духом. Миф потребовалось обновить: а ну как и впрямь? Пришло время сделать новую ставку.
И они попытались.
Но как?
Кто-то возмечтал сделаться Ингрией, получить автономию, а еще того лучше – полную независимость. Оказаться не совсем Россией, скорее, форпостом Европейского мира в России, городом-просветителем, городом-педагогом в отношении азиатской темноты, в отношении миллионных толп русских вандалов, живущих к югу и востоку. Более того, осуществлять эту миссию, пребывая в роли еще-одной-страны-Балтии, т. е. за барьером безопасности, внутри НАТО и Шенгенской зоны. Если нельзя, то хотя бы – жить на особых правах культурной автономии, словно какой-нибудь русский Гонконг (В. Шубинский). Но миф «единственного европейца» в России (Д. Коцюбинский), отторгающий город от московской «начальственной азиатчины», это ведь не полноценный миф: слишком уж похож на политтехнологический проект. Слишком мало в нем метафизики, слишком беден образный ряд. Он не собирает любовь и не рассеивает ненависть, а просто демонстрирует страх и презрение.
Что еще?
Какие-то «моги» и «могущества», от коих доброму христианину надо бы держаться подальше (Александр Секацкий). Свободолюбивая питерская интеллигенция примерила на себя восточную эзотерику в особо тяжелой форме, поиграла в Кастанеду, предложила устроить изящный Рагнарёк…
Узок круг того Тимура и его команды. Гораздо интереснее всех этих игр провозглашение Секацким особой «метафизики Петербурга», в рамках которой любой уют, любые материальные ценности стоят ниже ценностей символических, а эти, последние, ставятся выше жизни. Их и защищать следует ценой жизни, если потребуется. А поскольку нынешнее российское начальство, в том числе и те же «питерские», не понимает таких вещей и лезет «благодетельствовать» город, то для Петербурга становится уместной «добровольная блокада». Иначе говоря, осознанная закрытость местного интеллектуалитета от веяний «новой жизни», преобразующей Россию силой розог и денег. Следует отстраниться от властей; покоряться им нельзя; ввязываться в их проекты – недостойно. Пусть вся Россия во главе с Москвой делает, что пожелает, но Петербург не отступит и не переменится. Логика эта – высшей пробы, дай Бог умным людям осажденного Россией Питера ее придерживаться, авось и на осаждающих перескочит. Но… она вся сплошь – логика борьбы. Останется ли от нее хоть что-то, если власти махнут рукой и снимут «осаду»?
Еще есть неуютная постмодернистская эклектика Натальи Галкиной – обыватели барахтаются, барахтаются в чужой магии, отшибая о стены лабиринтов разум и душу. Рядом с СПб., в том же Комарово, под шепот ручья, под грезы о прекрасном несбыточном покое для образованного человека, под разговоры о том, как хорошо было таким людям, когда они перестали принадлежать империи – хоть на время! – какая у них случилась идиллия («Вилла Рено»). Но когда действие начинает перемещаться в сам город – как в повести «Свеча» из ее же сборника «Хатшепсут», – вновь воцаряется пронизывающий холод, вновь тьма, вновь мелькают тени могущественных надчеловеческих сил. Здесь из реальности улиц и перекрестков слишком просто попасть в реальность царства мертвых. Население града Петрова к сему обстоятельству привыкло. Тут считают себя «больше Европой, чем сама Европа», и в то же время свое пристанище называют заколдованным местом. Называют, кстати, резонно, ибо устами центрального персонажа Галкина со спокойной усталостью вещает о мрачноватых «чудесах» прежней столицы: «Например, существовали кварталы тишины, гасившие звуки, словно бы вымершие, с редкими прохожими, прорехи в огромном неводе городских шумов и звуков. Дома кварталов этих отбрасывали звуковые тени… Имелись целые районы, менявшиеся исподволь со временем, хотя никто в них ничего не перестраивал, ремонтных работ не вел и благоустройством не баловался… Город славился и своими невидимыми капканами и мышеловками, умением запереть человека в собственном доме, или в чужом, или в больнице, – наглухо и надолго…»
«Архипелаг святого Петра» того же автора сделан с гораздо большей нежностью к городу. На основании этой книги, пожалуй, можно говорить о «Петербурге Галкиной». Горсть островов, над которыми витает сонм призраков – исчезнувшего Зимнего сада, снесенного «Подзорного дворца», повешенных декабристов и других всяких многоразличных существ, видов, зданий… «Воздушная среда рифм и поцелуев», всё происходящее как будто заключено в стеклянном шаре, залитом водой, всё невесомо, всё зыбко, повсюду трепещет «мираж фантома». Смельчаки то и дело переступают границу между явью и тонкими планами бытия, прикасаются к мистике воды, в равных пропорциях смешанной с землей. И время от времени им является прекрасный первообраз города – ослепительная, эзотерически-совершенная Северная Пальмира. Город очень хорош, будто специально приспособлен для пленительно-тонкой любовной игры интеллектуалов. Но… очень мал круг людей, способных посмотреть на Петербург очами Натальи Галкиной. Ее плато для любящих друг друга homo ludens слишком изысканно. Оно, в сущности, предназначено избранным одиночкам. От христианства этот мир столь же далек, как и «моги», но хотя бы ему не враждебен.
Или, скажем, «Петербург Андрея Столярова» – писателя, подвизавшегося и на политтехнологической ниве: город холодный, мрачный, чудовищно нетерпимый к людям, по всякий день готовый жителям на го́ре извергнуть из каменных своих недр очередную порцию адского зверья. В романе «Не знает заката» Столяров приводит эту темную стынь к соединению с большой философской пользой: «Город этот… приподнимает человека над повседневностью. Он открывает ему то пространство, в котором рождается собственно бытие, те бескрайние дали, в которых существование преисполняется смысла. Иными словами, он приподнимает завесу вечности. А в вечности человек жить не может. Человек может жить только во времени. Вечность требует от него такого напряжения сил, на которое он, как правило, не способен. Слишком многим приходится для этого жертвовать… Из такого уютного, такого знакомого, такого приветливого воздуха, образованного людьми и вещами, с которыми уже давно свыкся, выходишь в мир, имеющий странные очертания. Вдруг оказываешься на сквозняке, от которого прошибает озноб. Оказываешься во тьме – еще до сотворения света. Распахиваются бездны, где не видно пределов, кружится голова, стучит кровь в висках, горло стискивает тревога, мешающая дышать». Дескать, тут жить нельзя, но надо, ибо именно тут из преисподней выползают величайшие смыслы мира. И отсюда бы править правительством, поставляя ему те самые смыслы…
Темную мистику русской Ландскроны весьма сильно подпитали книги Наума Синдаловского. Этот неутомимый собиратель мегаполисного фольклора, коллекционер призраков сложил в аккуратные штабеля материал для мифостроительства.
«Прагматичный, придуманный одним человеком в сугубо практических, утилитарных целях не столько