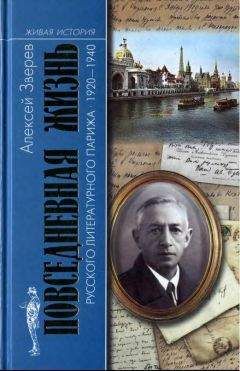Периодически наезжая в Петербург, Мережковские в свой первый эмигрантский период прожили на рю Колонель Бонне до 1914 года и успели перезнакомиться со всем тогдашним русским Парижем. Там собралось пестрое общество. Гиппиус вспоминает: были «случайные европеисты, неудачники на родине, коллекционеры, меценаты». Были убежденные галломаны, преимущественно из литературной среды. Был поэт Николай Минский, декадент, которого угораздило сочинить стихи, начинавшиеся так: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и стать соредактором ленинской «Новой жизни» (когда пролетарии услышат его призывы, он пустится в бега и, победствовав в Лондоне, опять приедет в 1927-м в Париж, ставший ему последним пристанищем).
Был другой, намного более знаменитый поэт — Константин Бальмонт. В 1905 году он поразил своих бесчисленных поклонниц, напечатав громовые вирши, где воспевал «победу сознательных смелых рабочих» и грозился об руку с ними смести на свалку «старый сор». Пародисты язвили, замечая, что «тяжел рабочий молот для его бессильных рук». Власть припугнула ослушника, и теперь он жил на тихой улице за Люксембургским садом, уверяя, что не вернется в страну, где правит «царь-висельник». В Париже, в ресторане на бульваре Сен-Дени, отпраздновали в январе 1912 года двадцатипятилетие литературной деятельности Бальмонта. Он по этому случаю написал стихи, где говорилось, что четверть века для поэта ничто, и содержался призыв «Верь крылатым — и огню!».
Так все и шло почти до начала мировой войны, когда в Бальмонте взыграл патриотизм. А в 1920-м, добившись липовой научной командировки в Европу, он бежал от тех, кто покончил с «висельником» в екатеринбургском подвале.
По четвергам русские парижане собирались у художницы Елизаветы Кругликовой, в ее гостеприимном доме на рю Буассонад 17. Там бывали костюмированные вечера, немолодая хозяйка выступала в мужском наряде. Кругликовой посвятил велеречивый сонет «Латинский квартал» Вячеслав Иванов. Однако сама она больше ценила и любила другого стихотворца — Максимилиана Волошина.
«Мне, Париж, желанна и знакома власть забвенья, хмель твоей отравы!» — завершается волошинское стихотворение, которое написано в 1909 году, когда этот хмель стал проходить и в душе было иное, «пустыня Меганома»: так называется мыс между Коктебелем и Судаком, где «зной, и камни, и сухие травы». Однако яд действовал долго. Под знаком Парижа, который для него был «нервный узел всей Европы, солнечное сплетение ее чувствующих и сознающих тканей», прошла вся молодость будущего коктебельского отшельника. Он и впоследствии стремился в Париж, только в Париж, и в автобиографии соглашался с теми, кто находил: Волошин «пишет по-русски так, как будто по-французски». Цветаева считала, что он «и жил, головой обернутый на Париж».
Впервые Волошин туда приехал студентом-юристом, которого выгнали из университета за участие в беспорядках. Одной своей феодосийской приятельнице начинающий поэт писал осенью 1899-го, что Париж его «совсем покорил, уничтожил и влюбил в себя», и это не были дежурные восторги неофита. Волошин чувствовал и умел передать очарование Парижа, как мало кто другой из русских поэтов, посвятивших этому городу строки и даже циклы. С 1901 года он жил там постоянно, и парижские стихи были первыми, в которых поэтический голос Волошина прозвучал своей особенной мелодией:
Осень… осень… весь Париж,
Очертанья сизых крыш
Скрылись в дымчатой вуали,
Расплылись в жемчужной дали.
В поредевшей мгле садов
Стелет огненная осень
Перламутровую просинь
Между бронзовых листов.
Вечер… Тучи… Алый свет
Разлился в лиловой дали:
Красный в сером — это цвет
Надрывающей печали.
Ночью грустно. От огней
Иглы тянутся лучами.
От садов и от аллей
Пахнет мокрыми листами.
Цикл «Париж», одиннадцать стихотворений, из которых самое раннее относится к 1902 году, выдержан в этой печальной и светлой тональности. Сразу чувствуется взгляд художника, который любит акварель. Волошина притягивают размытые очертания, неброские оттенки: город обволакивает лиловая мгла, бледный лист вспыхивает на больших стволах каштанов, зарево и небо сливаются в зеркально-живой бездне ночной площади, а на реке линялыми шелками качается белый пароход. «В дождь Париж расцветает, точно серая роза… Шелестит, опьяняет влажной лаской наркоза».
Волошин ехал во Францию, точно представляя себе, в чем его главная цель: считал необходимым «пройти через латинскую дисциплину формы». В автобиографии он потом напишет: «Форме и ритму я учился у латинской расы». Его страшило, что в делах искусства он «совершенный дикарь». Притягивали новые школы и веяния. Осенью 1902-го, прожив в Париже почти два года, Волошин познакомился с Бальмонтом и был поражен, когда выяснилось, что символизм далеко не новость и в России. Сам он постигал уроки современной эстетики по парижским образцам.
Памятником этих штудий остался цикл статей о французской художественной жизни в книге Волошина «Лики творчества». Она сложилась из обзоров, которые он писал, начиная с 1904 года, и печатал главным образом в журналах символистов «Весы» и «Аполлон». Когда первая часть этой книги в 1914 году вышла в свет, появилась скептичная рецензия, где было отмечено, что автор «очень хочет писать так, как пишут французы. Он делает все возможное, чтобы быть самым французским из всех русских». Но, «когда дело доходит до общих положений, автор оказывается совершенно бессильным и даже просто банальным». Рецензию написал молодой Борис Эйхенбаум, впоследствии — выдающийся историк литературы. Он был пристрастен к Волошину, хотя зорко подметил кое-какие его грехи: любование фразой, маску эстета, который «с видом изящного равнодушия говорит о самых модных темах».
Печать бесстрастности, культ безупречной формы, которая признается самоценной, как будто умение превосходно владеть стихом уже превращает ремесленника в поэта, — такие упреки (не без оснований) предъявляли Волошину и критики, откликавшиеся на публикации его стихов. Школа, пройденная у французов — особенно у высоко им чтимых Эредиа и Малларме с их «утонченнейшей логичностью» и «умственной химией», которая должна вытеснить из поэзии живое чувство, — постоянно о себе напоминала, что бы ни писал Волошин в первый период своего творчества, до революции. Однако надо бы по справедливости оценить не только ущерб, который причиняло искусству подобное толкование его сущности и назначения, но и сильные стороны доктрины, долгое время так увлекавшей Волошина — и не его одного. Эта доктрина основывалась на представлении о поэзии как об особой речи, которая подчинена своим законам: они требуют кропотливого изучения и должны исполняться со всей строгостью. Она признавала творчество почти священнодействием и не оставляла места ни для порывов неумелого вдохновенья, ни для требований служить «общественности», превращая стихи в скверно зарифмованные прописи. В «Автобиографии», написанной через много лет после прощания с Парижем, — он прожил там четыре года, с 1901-го по 1905-й, и они были решающими для его творческого становления — Волошин называет своих учителей, сплошь французов: Теофиля Готье, Флобера, Анатоля Франса, Эредиа, философа Анри Бергсона. Перечень стал бы чуть иным, если бы его составлял не Волошин, а другие приверженцы французской музы: например, Иннокентий Анненский (Малларме он упомянул первым, говоря о писателях, «которые особенно глубоко повлияли на мою мысль»). Или Гумилев, отправившийся на поэтическую выучку в Париж осенью 1906 года, сразу по окончании гимназии, и затеявший там недолговечный журнал «Сириус», куда приглашались только поборники нового искусства.
Волошина, с которым через несколько лет у Гумилева выйдет резкая ссора, приведшая к дуэли, тогда уже не было в Париже. Как раз в тот год он женился на художнице Маргарите Сабашниковой, а она хотела жить в России. Он еще несколько раз вернется в свой любимый город, проживет там почти полгода в 1911-м корреспондентом малопочтенной и быстро прогоревшей «Московской газеты», а последний раз приедет еще через четыре года, когда шла война. Население русского Парижа поменялось у него на глазах, особенно резко — после первой русской революции. Политических эмигрантов теперь были толпы: эсеры, эсдеки разных оттенков, анархисты, фанатики, просто романтики и энтузиасты вроде волошинской знакомой Ольги Лишевой. Дочь полковника, курсистка, она семнадцати лет от роду вступила в эсеровскую боевую организацию, была сослана в Сибирь, бежала оттуда и теперь брала уроки в парижской Академии художеств.
С одним из недавних энтузиастов революции, покрутившимся среди большевиков и отведавшим тюрьмы, Волошин в парижскую свою осень 11 — го года познакомился довольно близко, — это был двадцатилетний и уже известный поэт Илья Эренбург. Волошин заходил к нему на рю Кампань-Премьер 9. Эренбург ему не нравился: ни как поэт, чья первая книжка, напечатанная с год тому назад, вызвала многочисленные заинтересованные отклики, ни как личность. Был он, по воспоминаниям Волошина, «неряшлив — с длинными прямыми патлами. „Человек, которым только что вымыли очень грязную мастерскую“, — так я сформулировал тогда свое впечатление».