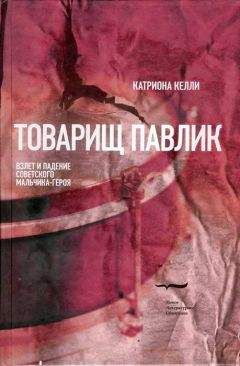266
Распространенная техника спасения заблудившегося в лесу: снять и надеть свою одежду наизнанку тогда лесные демоны отступятся. Выражаю благодарность Андрею Жукову за эту информацию.
О разгуле бандитизма в Западной Сибири в 1930-х гг. и но времена Гражданской войны см.: Старжинский, 1991, с. 118—119. (В детстве Старжинского однажды едва не задела пуля в тайге. Сначала посчитали, что это был охотник, промышлявший лося, но впоследствии выяснилось: сбежавший из местного лагеря уголовник попытался убить мальчика, опасаясь, что тот его опознает.) Более того (если допустить, чго показания про мешок, надетый на голову Павлику, ошибочные или ложные), Морозовы вообще могли погибнуть не от рук человека: их мог растерзать дикий зверь — медведь или волк, лось или олень, а следы их рогов, клыков или когтей в угарном состоянии приняли за ножевые раны. Об изобилии медведей в этих местах в 1930-х гг. см.: Старжинский, 1991, с. 90 (хотя считается, что они были чересчур боязливы, чтобы представлять настоящую опасность для людей), а также: Дружников, 1995, с. 23.
Надо сказать, что такая реакция характерна для деревенской публики и других стран. Хорошо помню, как наша соседка в Ирландии, которая родилась в 1910-х гг., с увлечением рассказывала нам лет двадцать тому назад о гибели немецкого туриста, заблудившегося в горах: «Его нашли… окоченелым в сидячем положении!!!»
Arlet, 1971, табл. 107, с. 87: в 21 из 84 случаев в качестве орудия убийства был применен нож, что значительно превышает количество других видов орудий убийства; за ним по частоте применения следует дубина (Knebel), использовавшаяся в 9 случаях. Arlet, 1971, табл. 91, с. 77: из 38 преступлений, совершенных вне дома, 24 произошли в лесу; табл. 108, с. 88: в 16,3% случаев мотивом преступления послужил гнев, вызванный жертвой, а в 6,7% — страх, что жертва донесет о преступлении. Статистику раскрытия преступлений см. в: Arlet, 1971, табл. 112, с. 135: 24 преступления раскрыты менее чем за день, 33 (из 64) — менее чем за три дня. Арлет не перечисляет способов утаивания следов преступления, но из описания 41 дела, приведенного на с. 91—123, видно: только один из совершивших преступление предпринял серьезную попытку спрятать тело (пытался сбросить его в реку), остальные же не приложили практически никаких усилий, чтобы скрыть следы преступления. О мотивации см. также: Alder and Polk, 2001, табл. 7.3, с. 124: около трети подростков — жертв убийств подпадают под категорию «разрешение конфликта».
Надо отметить, что в деле отсутствует часть официальной заключительной формулировки. Вместо «протокол со слов записан верно прочитан мне вслух в чем подписуюсь», говорится: «протокол со слов записан верно в чем подпишусь» (или, в характерно исковерканной версии Титова, «протокол со слов записан верно в чом подписуюс»). В этом пропуске можно усмотреть подсознательное признание Титова в том, что предписанные процедуры не были соблюдены. С другой стороны, это могло стать результатом недосмотра или лихорадочных усилий уместить протокол на одной стороне листа — подписи и заключительная формулировка втиснуты под последней напечатанной строкой и занимают все нижнее поле вплоть до края страницы. Через тридцать лет брат Ефрема Дмитрий вернулся к этому эпизоду, изложив его по-другому и, возможно, более точно. По его словам, Ефрема заставили подписать протокол, причем, делая это, он не отдавал себе отчета, что признается в том, что «принимал участие» в убийстве (Нагибин, 1964, с. 2).
Эти четыре слова вычеркнуты.
Так! Т.е. его бросили.
Здесь описание основных ран, полученных Федором, совпадает с их описанием в акте посмертного освидетельствования [7] — см. также главу 5. Тот факт, что Данила раны, нанесенные Федору, описывает более подробно, чем раны Павла, может служить подтверждением рассказа Ефрема, что он (Ефрем) убил Павла, а Данила — Федора; это также может означать, что Данила наблюдал сцену убийства с близкого расстояния (я бы поддержала второе предположение).
Слова «его же» вставлены.
Первый свидетель, Иосиф Протопович, утверждал, что это произошло в 17.00 часов [36]; второй — Прохор Саков, также предположил, что это было в 5 часов, но одновременно заявил, что это было прямо перед заходом солнца [168], это переносит происшествие скорее на 6.30 — 7 часов вечера (как считал сам Прохор, это случилось в 5 часов: Ефрем попросил закурить, но «мне было некогда с ним разговаривать, и я сказал, что у меня табаку нет»).
Отец Ефрема заявил, что мальчик вернулся домой, распряг лошадь и повел ее в поле, а потом вернулся, перед тем как идти к Прокопенко [17]. Но его мать сказала, что он провел в поле весь день, а потом пошел к Прокопенко. Как бы то ни было, на то, чтобы, вернувшись с лошадью, распрячь ее и отвести в поле, потребовалось бы полчаса, что позволяло Шатракову появиться у Прокопенко еще засветло (около 7 часов), если он ушел с поля около 6.30.
Кукина, Кожевников, 1997, с. 72. Ср.: Condee, с. 2: «Павлик был социальным переживанием, формой массового сознания, отражающего союз детства с государством… Павлик — это знак социального обновления, пересмотра этических норм, исторического перелома, происходившего под контролем всевидящего ока высшей государственной власти». В этой работе также содержится глубокое психоаналитическое прочтение Павлика как одного из «безгласных существ», которых государство в корыстных целях наделило несвойственным им могуществом» (с. 4). Благодарю Н. Конди за ознакомление меня с этой интересной работой.
Социологи и историки отмечают, что в советском обществе на его позднем этапе выросло значение личных ценностей. См., например, материал в: Советский простой человек, 1993, с. 281: 56,8% опрошенных в 1989 г. считали, что прежде всего советскому человеку не хватает материального достатка, 43,4% считали, что их главная социальная роль — матери или отца своих детей; с. 296: для 52,7% самой большой радостью было проводить время с детьми. Опросы также показывают высокий уровень недоверия к «инстанциям». См., например: Гудков, 2004.
Когда я заканчивала работу над английским изданием этой книги, произошел террористический акт в бесланской школе; некоторые люди в России комментировали его в подобном духе. Например, 7 сентября на митинге на Дворцовой площади в Петербурге кинорежиссер Алексей Герман призывал расстрелять выживших террористов, т.к. тот, кто сначала прикрывается ребенком от пуль, а потом перерезает ему горло, заслуживает смерти (новости на канале «Россия», 7 сентября 2004, 22:00). Очевидно, что человек, проявивший такую жестокость по отношению к ребенку, заслуживает сурового наказания. Но, как сказал директор Эрмитажа М. Пиотровский в той же программе, чрезвычайно важно выяснить все подробности произошедшего в Беслане, прежде чем выносить приговор террористам, захватившим заложников, — в любом случае превращение террористов в жертв было бы с политической точки зрения катастрофически опрометчивым шагом.
Провоцирующий на размышления анализ скандалов, связанных с убийствами детей, см. в: Morrison, 1997; в специальном номере французского журнала «L'lnfini», № 59, 1997 (La question pudophile), посвященном вопросу о педофилии (авторы Сильвен Демиль — Sylvain Desrnille — и др.). Как в России в начале XX в., так и в западных странах в конце XX в., возмущение по поводу убийств детей сопровождалось бурным распространением идеи о коммерциализации детства. «Крейцерова соната» (1889) Л. Толстого стала первым произведением, в котором отразился критический взгляд на «моделирование» ребенка в угоду родительскому тщеславию и корысти. О коммерциализации детства в конце XX в. на Западе, особенно с помощью телевидения, см.: Postman, 1983. С другой стороны, в Советской России после 1928 г. строгое государственное регулирование рынка препятствовало распространению такого рода страхов. Угроза «нормальному», в представлении советских людей того времени, детству ощущалась со стороны беспризорных детей. Не случайно первые годы распространения легенды о Павлике Морозове совпали с введением крутых мер по борьбе с бродяжничеством и детской преступностью. Кульминацией стал закон «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» от 7 апреля 1935 г. (по нему несовершеннолетним за определенные преступления полагалось «взрослое» наказание), а также последовавший за ним декрет, запрещавший бродяжничество (согласно этому декрету, всех бездомных детей должны были определить в детские дома). Судьба Павлика Морозова и его брата, самостоятельно ушедших в лес и там погибших, служила предупреждением о том, что может случиться с детьми, оставленными без надзора взрослых.