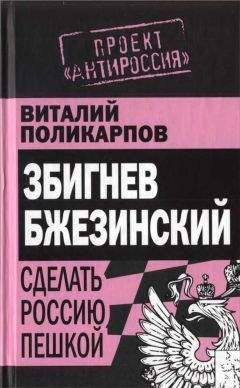С иными нравами приходится сталкиваться при знакомстве с образом жизни французских крестьян абсолиютистской эпохи. Прежде всего, в отличие от японского крестьянина, который на социальной лестнице находился выше сословия купцов и ремесленников (по крайней мере, формально), французский крестьянин в общественном мнении представал в нечеловеческом облике. Уже во французской поэзии и поэзии вагантов оценка мужика является резко уничижительной и отрицательной. Во «Всепьянейшей литургии» ненависть вагантов к крестьянам находит самое откровенное выражение: «Боже, иже вечную распрю между клириком и мужиком посеял и всех мужиков господскими холопами содеял, подаждь нам… от трудов их питаться, с женами и дочерьми их баловаться и о смертности их вечно веселиться». В «грамматическом упражнении» вагант склоняет слово «мужик» таким образом: «… этот мужик, этого мужлана, этому мерзавцу, эту сволочь…» и далее в подобном же роде, и в единственном, и во множественном числе. В «Мужицком катехизисе» читаем: «Что есть мужик? — Существительное. — Какого рода? — Ослиного, ибо во всех делах и трудах своих он ослу подобен. — Какого вида? — Несовершенного: ибо прежде, чем петух дважды крикнет, мужик уже трижды обгадится…» (73, 21). Из этих фрагментов французской литературы видна ненависть к крестьянам, которых считают нелюдями, стоящими вне морали и вне культуры. Такого рода установка французской литературы раннего средневековья сохранится и в дальнейшем.
Упоминавшийся выше Л. Февр отмечает, что и в XVI столетии сам крестьянин чувствовал себя ближе к животным, нежели к людям: «Это масса бедняков, обездоленных, отсталых, невежественных, тех, что много работают и страдают, кого едва отличают от скотины и кто сам зачастую испытывает больше братских чувств, живя среди скотины, чем при общении с себе подобными» (291, 337). Эти бедные крестьяне, лишь слегка обтесавшиеся в силу того, что ходили в школу, где сносили побои сельского полуграмотного священника и научились с грехом пополам служить мессу и твердить молитвы из требника, ежедневно посещали церковь. Они стоят на богослужении в полинявшей от многих стирок одежде, уставшие от тяжелой работы и погрузившиеся в мир грез и мечтаний. Они крестятся потому что так положено, становятся на колени и поднимаются с колен, слушают краем уха песнопения и молитвы, и в то же время их мысли блуждают в полях и лесах, где у дуба Фей с прохладным источником ночью собираются пить воду сказочные драконы, покрытые медной чешуей и осыпанные жемчужными каплями. В глубине души они хранят память о языческих культах и верованиях, несмотря на массированную обработку их сознания католическими проповедниками: «Могучие потоки народной религии природных сил, стихийного пантеизма текут через все средневековье — не будем об этом забывать — и через все Возрождение. Людей, которые дали этой религии соблазнить себя, увлечь, утянуть невесть куда, — таких людей христианство обогатило, наверное, одним представлением о Дьяволе — этом противобоге негодяев» (291, 337–338). Языческие верования живут в сердцах французских крестьян, подпитывая древние коммунистические идеи.
И сама социальная действительность тоже способствует этому — ведь французского крестьянина давят громадные налоги, десятина «обычная» и «необычная», он страдает от ущерба, наносимого охотой дворянина на его полях, от придирок и злоупотреблений правосудия. Крестьянин стремится отстаивать свое право на воду и дерево, на рыбу речную и дичь полевую, на лес с пчелами и зверями. Неудивительно, что крестьяне собираются на тайные сходки, где зарождаются несметное число бунтов, подавляемых чуждым им миром.
Для нравов французских крестьян рассматриваемой эпохи характерна своеобразно понятая религиозность. О ней Л. Февр пишет следующее: «Религиозность заключалась в том, чтобы, находясь в церкви, читать одну за другой молитвы, перебирать четки, пока священник совершает богослужение. Это значило строго поститься в Великий пост, в другие постные дни; не работать по воскресеньям и в дни праздников; молиться ежедневно; два или три раза в жизни совершить паломничество, близкое или далекое; лучше всего наперекор всем стихиям добраться до Святой Земли — не страшась ни пиратов, ни турок, ни штормов» (291, 334–35). Вообще, в сердце французского крестьянина (как и у других представителей третьего сословия) заложено стремление к странствиям, замешанное на старой закваске бродяжничества и крестовых походов.
Семейная жизнь крестьян той эпохи характеризуется неопределённостью отношений между родителями и детьми. Во всяком случае ясно одно — исследователям ничего неизвестно о господствовавших чувствах в семье. Жизнь была тогда весьма суровой, на крестьянина обрушивалась масса несчастий и злоключений; чтобы перенести различного рода напасти, он должен был иметь толстую кожу, дубленую шкуру (в прямом и переносном смысле). Возможно, что за грубой внешностью скрывались родники нежных и тонких чувств; однако наша ретроспективная история чувствований исходит из регистрации внешних проявлений эмоций и чувств крестьян. «А то внешнее, что мы наблюдаем в XVI веке, — подчеркивает Л. Февр, — часто беспощадно и сурово. В семье умирает ребенок, два ребенка, пять детей в нежном возрасте, унесенные неведомыми болезнями, которые не умеют отличить одну от другой, которые никто не умел тогда ни распознавать, ни лечить; сухое свидетельство из семейной книги, просто дата, сообщение о факте, после чего автор записи, отец, переходит к какому–нибудь более значительному событию: сильные заморозки в апреле, уничтожившие надежду на хороший урожай, или землетрясение — предвестник великих бедствий?» (291, 296). Перед нами только констатация факта о смерти детей и ничего больше, что может свидетельствовать о неразвитости чувств.
О суровых и жестоких нравах того времени говорят следующие фактические данные о взаимоотношениях детей и родителей, проявлявшихся в экстремальных ситуациях.
Обычно жену крестьянина в деревне почитали за добродетель, уважали за женскую плодовитость и иногда хвалили за хозяйственные таланты. Однако если она умирала, оставив супругу очень мало детей (не более пяти–шести), то он сразу же женился вновь, чтобы иметь не менее дюжины детей. И когда женщина–крестьянка, которая осталась тоже без мужа, выходила снова замуж, то для ее детей, как правило, это означало бездомную жизнь. Они вынуждены были уходить из дома, поступать в услужение или заниматься ненадежным и опасным нищенством на дорогах. Обычно эти дети забывали даже имя своей матери, в памяти у них оставались имена двух или трех братьев и сестер; все остальные родственники просто–напросто не существовали для них. Для таких поистине диких нравов, согласно нашим привычным меркам, характерно отсутствие привязанности к семейному очагу, отчему дому, родственникам.
Очевидно, эти нравы вырастали из условий существования французских крестьян, чья жизнь по мере укрепления абсолютистской власти все более ухудшалась (все время увеличивалось налоговое бремя). Крестьяне, например, в основном жили в деревянных хижинах, отапливавшихся «по–черному», без трубы и окон (окна ведь облагались налогом), одевались в грубую домотканую одежду, в зимнюю стужу надевали тяжелую деревянную обувь — сабо. Только небольшая группа крестьян позажиточней выделялась в их среде, однако и они стонали под прессом налового бремени. Об условиях жизни французских крестьян XVIII столетия говорится в письме епископа Масильона, отправленном им в 1740 г. из Клермона в провинции Овернь министру Людовика XV Флери: «Народ в наших деревнях живет в чудовищной нищете, не имея ни постели, ни утвари. Большинству около полугода не хватает их единственной пищи — ячменного или овсяного хлеба, в котором они вынуждены отказывать себе и своим детям, чтобы иметь, чем оплачивать налоги… Негры наших островов бесконечно более счастливы, так как за работу их кормят и одевают с женами и детьми, тогда как наши крестьяне, самые трудолюбивые во всем королевстве, при самом упорном труде не могут обеспечить хлебом себя и свои семьи и уплатить причитающиеся с них взносы. Если в этой провинции находятся интенданты, говорящие иным языком, это значит, что они пожертвовали истиной и своей совестью ради презренной карьеры» (108, 297). И хотя во всех провинциях Франции положение было столь катастрофическим, ибо были провинции и позажиточнее, несомненна нищета крестьян и беспросветность их существования, порождающая весьма жестокие и дикие нравы.
Раздел 27. В рабоче–мастеровой среде: Восток или Запад?
Заслуживает внимания и рассмотрение в плане сравнения нравов ремесленников и рабочих Востока и Запада, что позволяет лучше понять особенности жизнедеятельности этого социального слоя в условиях монархического строя. Начнем, как не раз уже случалось, с описания быта и нравов ремесленников и мастеровых Османской империи. Сразу же заметим, что в ней почти каждый мужчина занимался какой–нибудь профессиональной деятельностью: торговля, земледелие и ремесло или свободная профессия в сферах теологии, права или медицины. Даже среди самых богатых мало было таких, кто прожигал жизнь исключительно в море наслаждений, — большинство из них выполняло функции высших государственных чиновников и к тому же энергично занималось устройством собственных имений. Занятие каким–либо ремеслом считалось похвальным до такой степени, что даже сам султан должен был владеть одним из множества ремесел. Мехмед 1 изготавливал тетивы к лукам; Мехмед II был завзятым садоводом; Селим I и Сулейман I были золотых дел мастера; Мурад III слыл специалистом по выработке наконечников к стрелам, а Мехмед IV был поэтом и даже приказы для войска писал стихами и т. д. Иногда султаны преподносили в подарок лицам, прибывшим во дворец, какую–нибудь мелочь собственного изготовления; смысл здесь состоял в том, что факт занятия султаном деятельностью, которая была повседневным хлебом большинства его подданных, подчеркивал достоинство труда и выражал поддержку религиозной и социально–профессиональной функции цехов.