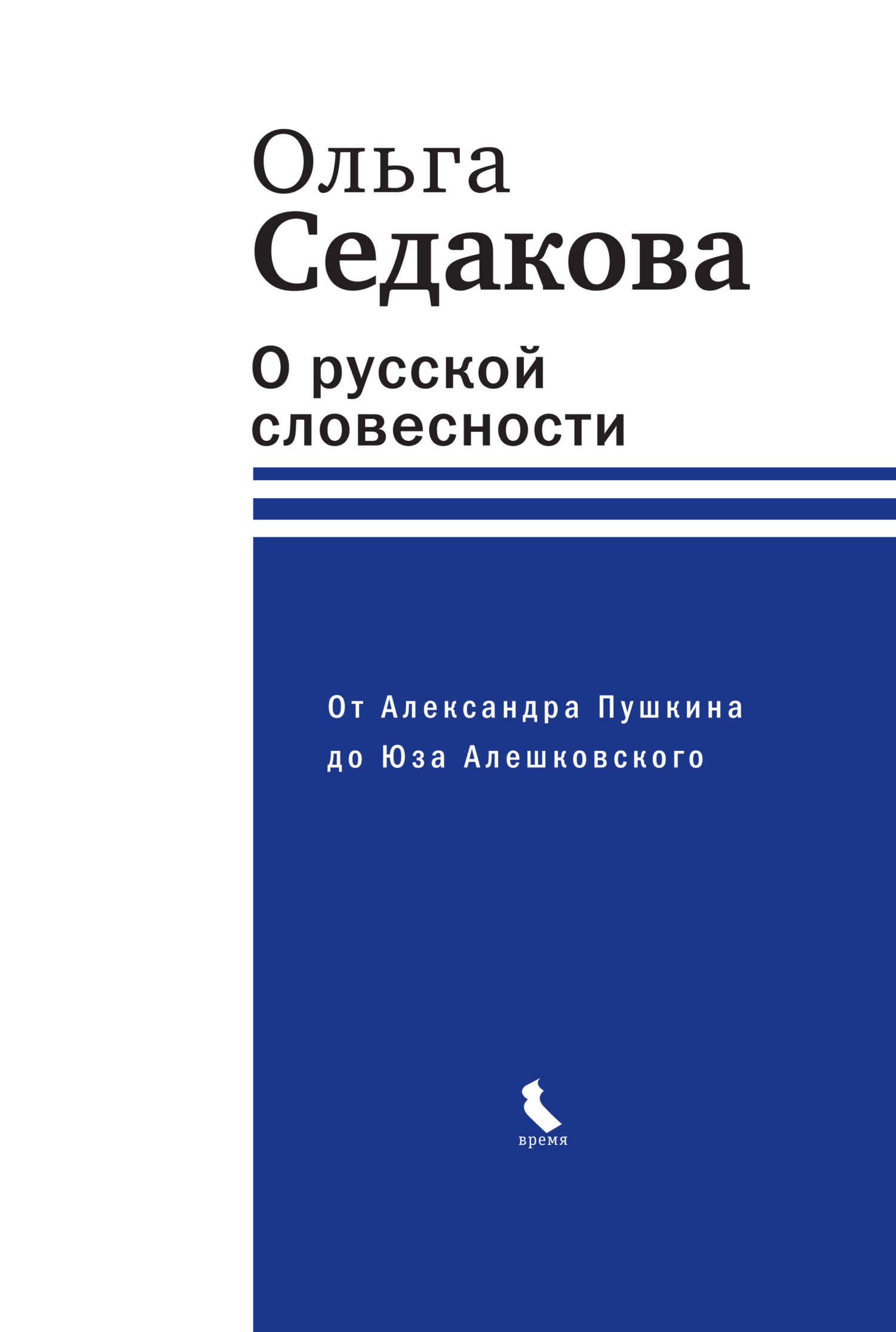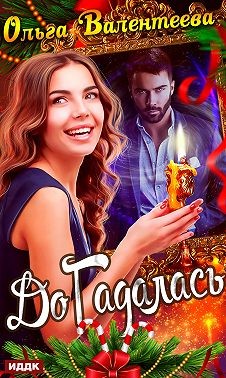его «космического» мировоззрения. Что касается отношения Пушкина времени МВ к бунту, то интересно сопоставить со смысловой системой поэмы современную ей дневниковую запись по поводу холерного бунта: «Царю не должно сближаться лично с народом. Чернь скоро перестанет бояться
таинственной власти… Доныне государь,
обладающий даром слова, говорил один; но может найтиться в толпе голос для возражения. Таковые разговоры неприличны, а прения
площадные превращаются тотчас
в рев и вой голодного зверя» [34]. Узнается ситуация спора (в поэме – сцена «царь на балконе»); метафора бессловесного зверя (бунтующая Нева: «как зверь, остервенясь» и Евгений: «ни зверь, ни человек»); признание за царем «дара слова» (именно царю принадлежит осмысленное и осмысляющее слово:
С Божией стихией
Царям не совладеть);
наконец, превращение царя в «таинственную власть» (в противопоставлении «черни» и, конечно, с точки зрения этой «черни»). Отметим еще, что непосредственная хронологическая близость работы над МВ и холерного бунта помогает нам увидеть наводнение, холеру, бунт в их внутренней связи – как ряд бедствий, или проявлений Божия гнева (прямое указание на это:
в Первой черновой рукописи) [35]. Если к этим бедствиям добавить события смерти царя и восстания декабристов (а такие аллюзии могут быть вычитаны из МВ) – мы получим полный список проявлений Божия гнева, который, видимо, отражая восприятие современников, приводит церковный писатель [36]. Первая черновая рукопись МВ намечает продолжение этой линии бедствий вглубь истории (наводнение 1777 года, «заметная пора»: рождение Александра I, еще живой Павел, недавняя пугачевщина) [37].
Нам важно, что бунт введен в круг стихий, ýже – «темных стихий», орудий небесного гнева, и события поэмы могут быть понятны как метафора общего явления, бунта – кары темной стихии [38]. И тематически ближайшее к МВ произведение с удивительно сходным построением конфликта – «Капитанская дочка».
В обеих вещах тема бунта излагается трехкратно: порядок – бунт и его временное торжество – месть и казнь. (В МВ все осложнено двойным проведением одного события: бунт Невы и бунт Евгения; причем в первом проведении неочевидна «месть», только намек в метафоре отступающей Невы:
Боясь погони, утомленны
Спешат разбойники домой,
а во втором – «торжество» перенесено в несбывшееся будущее: «Ужо тебе!» в обеих вещах происшествия в человеческом мире опережает и предсказывает стихия (метель, наводнение; между прочим, стихийные бедствия, одинаково входящие в образ самой среды: метель – всегдашний ужас степи, так же, как наводнение – Петербурга).
В обеих вещах один из самых напряженных моментов в развитии конфликта – эпизод, в котором хаотическая стихия, захватив все, приходит в странную стройность, своеобразный «порядок»: сцена пения на пиру у Пугачева в Белогорской крепости и выстроенная наводнением «Венеция»:
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы.
В обеих вещах неуловима авторская позиция в споре сторон, бесспорно далекая от категорического окрика «Дневника».
В обеих вещах грандиозной стихии противостоит комический (почти сатирический) мир мелкого быта и неодухотворенных персонажей, которые, оказавшись в позиции жертвы, теряют всякую комичность и становятся не менее патетичны, чем их стихийный противник [39].
Кажется, параллель «Медный всадник» – «Капитанская дочка» ближе подводит к конкретному смыслу конфликта, чем блестящая триада Р. Якобсона «Медный всадник» – «Каменный гость» – «Золотой петушок» [40]. Мотив оживления статуи (и не только статуи – см. дальше), действительно входящий в мир пушкинских архисюжетов, в МВ составляет форму конфликта. А в этой форме действует особый смысл, который мы ощущаем не как цепную реакцию «оживлений», а как спор и столкновение каких-то начал. Но есть ли вообще решение в этом споре? Не лучше ли увидеть в нем «идейную полифонию» или «амбивалентность» или «загадочность, входящую в самый замысел» [41]?
Мне кажется, в границах конфликта «порядок – стихия» ни одно из названий его неразрешимости не лучше другого. Он неразрешим не потому, что автор выбирает и не может выбрать между противоборствующими сторонами, а потому что обе они вместе противостоят чему-то иному. Вот эта третья сила, явно выписанная или держащаяся в уме, и определяет смысл конфликта. Ее можно назвать – на языке самого Пушкина – Божией стихией, светлой и не только не враждебной порядку, но тождественной ему, стихийным живым строем созвучных контрастов вроде знаменитого полтавского «ужасен – прекрасен» [42]. Это романтическая стихия недемонического романтизма, «нас возвышающий обман», стихия родной старины, свободных перемен и вдохновения. В «Капитанской дочке» эта вынесенная за скобки «светлая стихия» со всеми ее свойствами отнесена к идеальному миру старины, духовного дворянского наследия Гринева.
Образ этой «Божией стихии» связывает МВ еще с двумя тематическими кругами Пушкина: с его Петровской темой (особенно так, как она дана в «Полтаве») и с его поэтологией (особенно в ее повороте «мирская власть – поэт»). Сходство темы с «Божией стихией Царям не совладеть» в МВ и разных стихотворных воплощениях конфликта «поэта-пророка и царя» отметил Р. Д. Кайль [43]. Правдоподобие этой параллели поддерживают черты косвенной автопортретности в Евгении (см. ниже). Следствиями из этих параллелей займемся позже, а пока уточним стратегию конфликтующих сторон в МВ.
Первое, от чего нужно отказаться в описании этого конфликта, – это от закрепления его за персонажами. Образное единство Петра «Вступления» и Кумира мнимо, сомнительно функциональное персонажное единство Евгения, стихия наводнения тоже не цельный и не самостоятельный образ, а ряд метафор и подобий того или другого Петра, того или другого Евгения. Так, Петр-мститель, Петр-в-теме-Евгения – самостоятельный образ, он принадлежит бреду героя, материализует его сознание, и потому очень на него похож. Недаром внимательный исследователь стиха и стилистики МВ С. Б. Рудаков приходит к выводу о недуалистическом построении поэмы, о том, что и Евгений, и Петр в их размытой конкретности принадлежат одной теме [44]. К такому невероятному для «прозаического» чтения выводу [45] необходимо приводит «близкое чтение», наблюдение над специфически стиховой семантикой слова и словесной композицией «петербургской повести».
Вместе с С. Б. Рудаковым отказываясь от тематического противопоставления этого Петра и этого Евгения, мы все же не отказываемся от старой идеи «сонатного построения» МВ – только двутемность поэмы представим иначе. Во-первых, не будем, как уже говорилось, сводить темы к персонажам; во-вторых, как тоже уже говорилось, будем иметь в виду три силы, распределенные по этим двум темам: не «закон» и «стихию» (или «деспотизм» и «вольность» или «неподвижное, мертвое» и «подвижное, живое»), но:
1 – светлую стихию, стихийную законность,