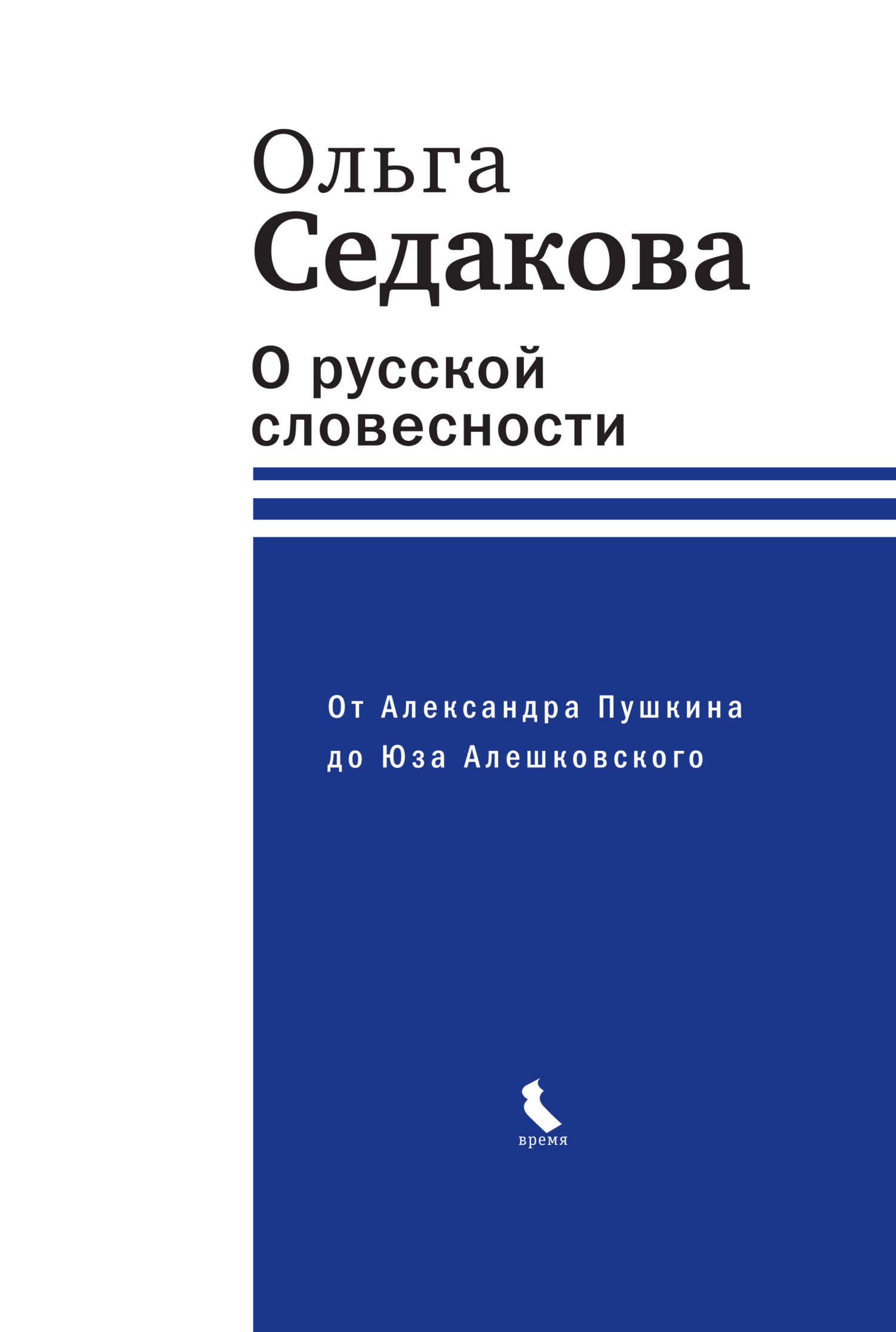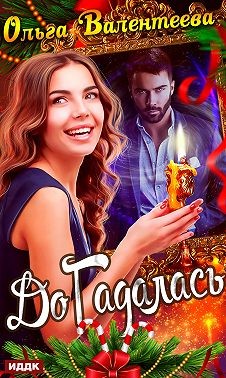Этим сопоставлениям был посвящен мой годовой курс в МГУ «Слово Пушкина и сопротивление ему в русской поэзии». Речь шла не об открытых бунтах против Пушкина (таких, как писаревская «реальная критика», или демократическая альтернатива Некрасова, или атаки футуристов), а о более сложном отношении: о невольном сопротивлении. Как будто не сами авторы, но что-то в них сопротивляется Пушкину – или что-то в Пушкине сопротивляется им. В ходе занятий мы пытались определить это что-то.
Зарубежные слависты нередко замечают, что Пушкин – «самый нерусский из русских писателей». Скорее всего, это значит: самый европейский. Но почему же тогда европейцы до нынешних дней не приняли его как «самого своего»? Пушкин не вошел в круг планетарного чтения, как входят в него Достоевский, Лев Толстой, Чехов, поэты XX века (Мандельштам, Ахматова, Пастернак, Цветаева), прозаики XX века (А. Солженицын, М. Булгаков, А. Платонов), русские религиозные мыслители…
Говорить о «нерусскости» Пушкина можно только исходя из очень определенной идеи (или мифа) «русского», которая в ходу и в самой России, и в мире. Это «русское» Пушкин преодолевает, по крылатому слову Цветаевой:
Преодоленье
Косности русской —
Пушкинский гений?
Пушкинский мускул.
Но не одну косность. Пушкинский мускул преодолевает и русский бунт, тот «жестокий мятеж», которым заворожена Цветаева (с ее черным Пушкиным против белого Пушкина пушкинианства). И русскую лихость, и «азиатство», и русскую анархию, и русский абсурд. И «проклятые вопросы», и знаменитый достоевский скандал, и моральную «широту» (неразборчивость), и особую русскую логофобию («словами ничего не выразишь!»), и пресловутую душу нараспашку, и изуверское «полюбите нас черненькими!», и русскую «идейность», и русское «или – или, все или ничего!», и характерное презрение к быту и материальному миру… Все перечисленное, и многое другое составляет расхожий миф «русского» – и всего этого нет в Пушкине. Заметим: как этого нет и быть не может в хорошем обществе. Вот еще один, совсем короткий ход к «другости» Пушкина: он человек аристократической эпохи, короткой утренней эпохи новой русской культуры, о конце которой заговорили уже при его жизни. Его неповторимая позиция – это естественность и открытость аристократизма, «дворянское чувство братства со всеми людьми» (Б. Пастернак), «благоволение» (как мы знаем, качество, которое Пушкин более всего ценил в человеке). Другое, аристократическое «русское». Пушкин его не изобрел. Свет этого благородства лежит на живописи Венецианова и на музыке Глинки. В золотом веке мы узнаем «другое русское» во всей красе, но у него к этому времени уже большая история. Образцы, формы, жанры пушкинского века были западноевропейскими, но их модуляция на российской почве очень похожа на то, что происходило с византийскими образцами в допетровские века: эти образцы смягчались и теряли резкость контуров, их архитектоника становилась менее очевидной; их чертеж как бы уходил под воду: они погружались в недосказанность, в особое, скромное и серьезное изящество [24], «простодушную прелесть», словами Пушкина.
До какого-то времени принято было проецировать это «другое русское» в будущее. Через двести лет, полагал Гоголь, русский человек будет таким, как Пушкин. Теперь так уже не думают, да и сам модус будущего закрыт в современной российской мысли. Пушкина запирают в «его времени», в отошедшем прошлом и траекторию русской поэзии описывают так: «От Пушкина до Пригова». Но читатель Пушкина чувствует: в прошлом он не умещается.
«История русских иллюзий и фантазий, русских заблуждений, изучена гораздо более внимательно и обстоятельно, чем история здравой русской мысли, воплощенной прежде всего в Пушкине» [25]. Пытаясь определить пушкинское «что-то», не унаследованное русскими поэтами, мы занимались для этого «близким чтением», свойствами поэтического слова Пушкина и его отношения к смыслу. Здесь, где такой детальный анализ невозможен, мне хочется говорить о другом, более общем моменте пушкинской «другости». Вслед за С. Л. Франком [26] (и за прот. Александром Шмеманом [27]) я буду говорить об уме Пушкина. О мысли, которая составляет для Пушкина центр человеческого существа, его бессмертное начало (см. эпиграфы).
* * *
Есть соединения двух слов, которые обыкновенно понимают как антитезу: поэзия и правда, поэзия и действительность. Другая такая пара – искусство и совесть (ср. известный очерк Марины Цветаевой «Искусство при свете совести»): на очной ставке с «действительностью» и при свете совести обнаруживается, что огромная часть «искусства» этого эксперимента не выдерживает. Поэзия, в таком случае, создается и действует в нас при потушенном свете совести, в стороне от правды – в «своем мире», который теперь назвали бы виртуальным, а в старину называли игрой, мечтой или сном.
Прежде чем обсуждать эти противопоставления, следовало бы разобраться в том, каким жестким, узким и обыденным оказалось общее представление о «правде» и «действительности», чтобы поэзия оказалась с ним несовместима. Историк культуры знает, что в другие эпохи истина, правда (и та ее часть, которая соотносится с позднейшей наукой, правом и т. д.) ни в какой другой форме, кроме как в поэтической, не воплощалась. Но мы принадлежим цивилизации, давно и радикально разделившей эти области.
Не менее антитетичной представляется и пара: поэзия и разум. Эта антитеза древнее первой, и начинают ее обыкновенно с Платона, с его учения о поэтическом неистовстве или безумии (mania): человек здравомыслящий, владеющий собой и отдающий себе отчет в том, что делает, напрасно будет подражать безумцам и ничего истинно поэтического не создаст.
Если рациональность и нравственность понимать так бедно и плоско, как это принято в современном «Словаре прописных истин», то спорить с тем, что поэзия с ними плохо совместима, не приходится. От этих понятийных чучел ее и в самом деле отличает известное безумие: мягче – и, тем самым, точнее – говоря, самозабвение и забвение мира, то есть открытость новому, неизвестному и неоцененному, с тем риском, который от этого неотделим. И это «безумие» отличает поэзию от рациональности и морализма таким образом, что именно она, поэзия, а не они соприкасается с областью мудрости. «Твои стихи… слишком умны. – А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата», написал Пушкин другу-стихотворцу – и не дописал: «и мудра», или даже так: «потому что мудра».
О безумной мудрости поэзии можно было бы говорить на примере стихов откровенно экстатических, выходящих за границы прозаического сознания – таких, как у позднего Мандельштама или Пауля Целана. Но еще интереснее, мне кажется, обдумать тот случай, где эта стихия поэтического почти невидима, совсем прозрачна – и ее странная или «тайная» [28] мудрость чрезвычайно близко подходит к простой разумности и прозаической правде. Таков случай Пушкина, по легендарным словам императора Николая I, «умнейшего человека России». Для