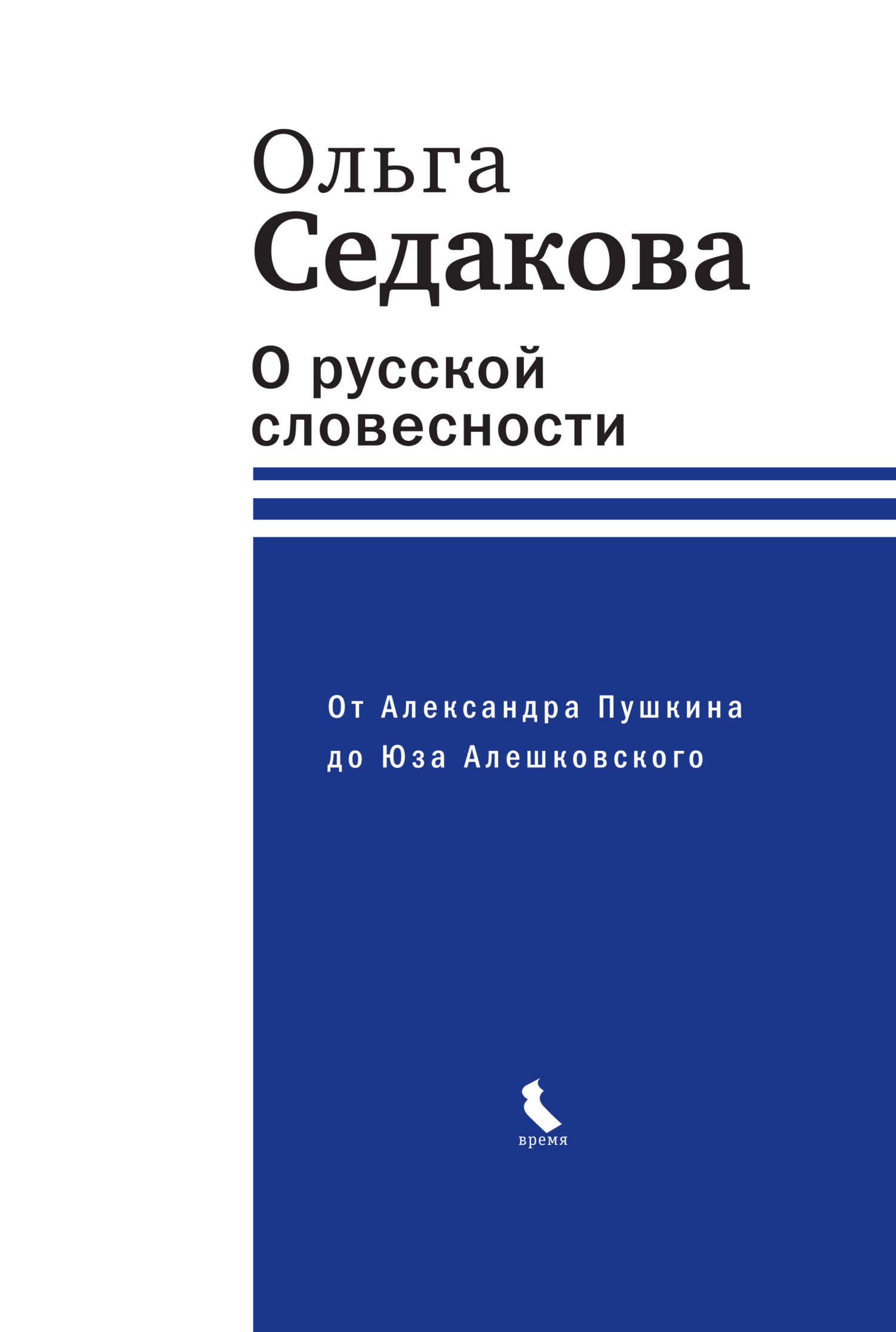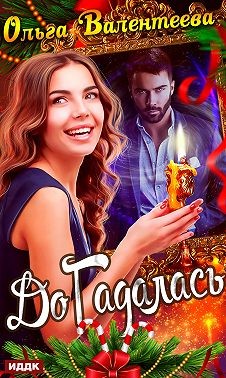негативизма, или неприятия, или неверия, или тотальной критичности. Словами Пушкина: о «глупости осуждения, которая менее заметна, чем глупость хвалы».
Прибегая к известному евангельскому совету, можно сказать, что Пушкин напоминает о том, что глупо не только не быть мудрыми, как змеи – но и не быть простыми, как голуби. Это глупо, потому что не отвечает положению вещей в мире – и, значит, обречено на неудачу (пушкинские сюжеты часто показывают, как права и в конечном счете удачлива оказывается благородная простота, а расчет и коварство проваливаются – хотя бы в «Выстреле» или в «Капитанской дочке», в отношениях «хитрого» Савельича и простодушного Гринева с Пугачевым, который, как и Петр у Пушкина, представляет собой род стихии, «Божией грозы» или «исторической метели»).
Глупо бездумно очаровываться – но еще глупее не поддаться очарованию, не прийти «в восторг и умиленье». Два этих вида глупости можно проиллюстрировать беседой Онегина и Ленского о сестрах Лариных: Ленский совершает первую глупость, очаровываясь Ольгой; Онегин, отстраненно понимающий цену Татьяне и остающийся бесчувственным, – вторую.
Глупо бездумно доверять – но еще глупее быть «тонким», то есть расчетливым и недоверчивым (примеры этому можно найти в сюжетике Пушкина); такая тонкость, говорит он, несовместима с великой душой.
Глупо бездумно принимать – но еще глупее необдуманно отвергать. Вопрос вкуса, то есть отбора и установления иерархии, важнейший для Пушкина, решается им как вопрос ума, «соображения понятий», а не безотчетных предпочтений. И здесь его суждение необыкновенно оригинально не только на фоне привычек его времени – но и нашего, не в меньшей мере. Ведь и мы назовем «безвкусным» и «неумным» того, кто будет восхищаться Ильей Глазуновым или Церетели, но не того, кто скажет, что он ничего особенного не находит в Леонардо! И мы если в чем откажем Зоилу, то скорее в доброте или в порядочности, чем в уме – как это сделал Пушкин в эпиграмме хулителю:
«Затейник зол», с улыбкой скажет Глупость.
«Невежда глуп», зевая, скажет Ум.
Занимательный пример характерно пушкинского, не спорящего опровержения скептицизма мы обнаружим в следующей записи из «Table-Talks»:
«Человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале (говорит Макиавелль, сей великий знаток природы человеческой). Глупость осуждения не столь заметна, как глупая похвала; глупец не видит никакого достоинства в Шекспире, и это приписано разборчивости его вкуса, странности и т. п. Тот же глупец восхищается романом Дюкре-Дюмениля или „Историей“ г. Полевого, и на него смотрят с презрением, хотя в первом случае глупость его выразилась яснее для человека мыслящего».
Заметим: не для человека добродушного – но для человека мыслящего! По видимости, продолжая скептическое суждение Макиавелли, Пушкин кончает, по существу, выпадом против «великого знатока природы человеческой». Причем оружие, которым Пушкин поражает скептицизм, – мысль, то, чем тот более всего гордится! Мысль, которая знает о человеке одно – его немощь, – это неглубокая, неполная мысль. Полная мысль знает другое:
Они дают мне знать сердечну глубь,
В могуществе и немощах его.
Скептицизм – в данном случае, антропологический скептицизм, – выглядит недомыслием, то есть глупостью. Он ничего не узнал о «могуществе» сердца. Понимание ума как исключительно критического, негативного начала выставляется как недостаточно умное, непродуманное! Что же до знания «природы человеческой», то Пушкин, как обычно, невзначай и мимоходом сообщает нам собственное знание (под покровом антологической стилизации):
Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою
Правду блюсти: ведь оно ж и легче [14].
Правду блюсти легче, поскольку соприроднее! Но при этом: такой соприродности можно только «сподобиться» и об этом «должно молить».
Именно поэтому Зло у Пушкина глупо, порок глуп, и своей глупостью, в сущности, они исчерпываются [15]. С особенной наглядностью это изображено в сказках: ненасытная Старуха в «Сказке о рыбаке и рыбке», скупой Поп в «Сказке о Балде». Глупо и недальновидно так себя вести. Признак глупости – самочувствие хозяина положения, и настоящего, и будущего. Я решаю, я сужу, ход вещей в моих руках. Глупость не понимает, где кончается область, с которой можно иметь дело, где начинается иррациональное, с которым не поспоришь (уж это Пушкин, назвавший себя «усталым рабом», знает отлично: «Делать нечего, так и говорить нечего»).
Данте, говорящий о душах «Ада», что они утратили «il ben dell’intelletto», не шел против своего времени. Он просто следовал Фоме Аквинскому и всей той огромной традиции понимания «безумия» (дурости), библейской и античной, которая стояла за ним. Когда же Пушкин глупым и слепым представляет, как в Библии, ум утилитарный («не подвижуся без зла») и циничный («рече безумен в сердце своем: несть Бог»), он идет против основного движения своего времени. Опирается он при этом, вероятно, только на собственный опыт самостояния, на опыт уединенных бесед с собою:
Дабы стеречь ваш огнь уединенный,
Беседуя с самим собою,
на те самые «не смертные, таинственные чувства». Своего Аквината у Пушкина явно не было. Его духовное знание получено экспериментальным путем: опытом на себе.
Они меня любить, лелеять учат
Не смертные, таинственные чувства…
Здесь нам необходимо отказаться от привычного для современного языка понимания «чувства» как эмоции, как чего-то постороннего (если не противоположного) разуму и психологического. В пушкинском употреблении в этом, как и во многих других случаях (как в уже упомянутой «клевете») еще живет более старое, церковно-славянское и древнерусское значение. «Чувство» – общая способность воспринимать («чуять»), одновременно и интеллектуальная, и эмоциональная: иначе говоря, открытость. Вот библейские примеры этого значения: «Благочестие же в Бога, начало чувства; безумнии же досады суще желателие, нечестивии бывше, возненавидеша чувство; устне мудрых связуются чувством: сердца же безумных не тверда» (Притч 1, 7; 1, 22; 15, 7). Такому «чувству» противоположно нечувствие, окамененное нечувствие: утрата всякого восприятия, невменяемость [16].
Поразительным образом пушкинское представление об «уме» или «здравомыслии» как о правильном или чистом «чувстве» сближается с аскетическим учением о sophrosyne, «здравомыслии», которое переводится также и как «целомудрие». Впрочем, быть может, это сближение и не так странно, если представлять себе, что опыт аскетики его знатоки сближают с «художеством», «умным художеством» [17]. Здравомыслие, иначе – чуткость, иначе – чувство: прямое и живое, чистое [18] отношение со своим предметом. «Расположение души ‹…› к быстрому соображению понятий…» Умник, или глупец у Пушкина, – человек нечувствующего ума, то есть ума закрытого, не входящего в отношения, не знающего вдохновения (которое,