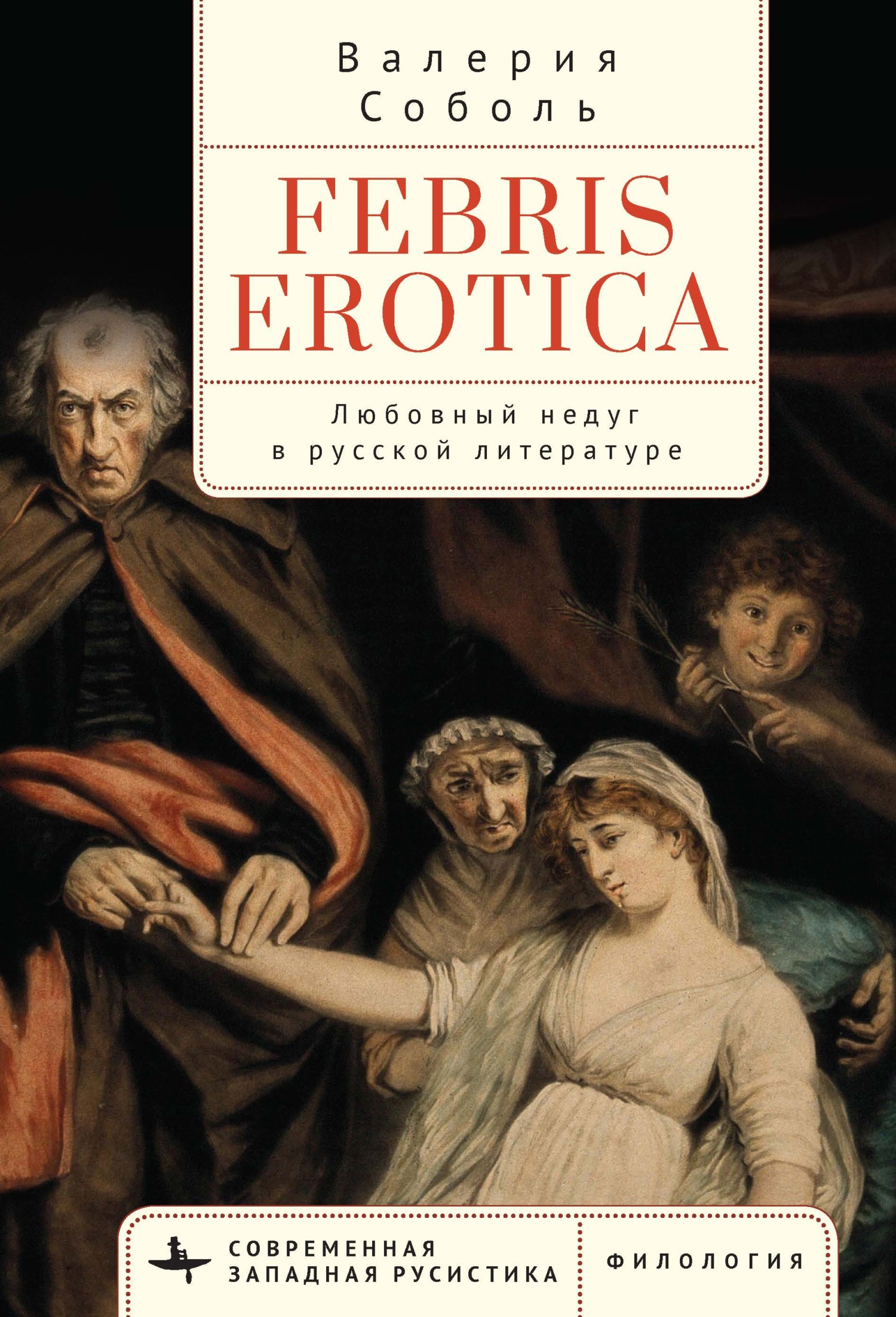используются здесь трижды. Хотя Сапфо и описывает постепенную потерю чувств влюбленного, она не пишет о ней открыто и не подчеркивает ее в той же настойчивой манере. С помощью подобного риторического сдвига русская версия существенно изменяет физиологическую основу эмоциональной драмы, изображенной Сапфо. Метание между «холодом» и «огнем», «влажным» и «сухим», которыми так восхищался в оде Сапфо автор трактата «О возвышенном», в русском переводе заменены на борьбу между «чувством» и «не-чувством». Состояние не-чувства, полная потеря чувствительности, вполне предсказуемо приравнено к смерти. Очень похожий механизм мы находим в более раннем примере сентименталистской физиологии любви – «Женитьбе в маске». Здесь любовь входит в душу героя «с первым пробудившимся чувствованием» и быстро разрушает «всю систему чувствований». В обоих примерах сильное чувство, как ни странно, приводит к разрушению чувствительности. То же самое происходит и в повести Павла Львова «Леокадия», где героиня «не можетъ преодолеть своей чувствительности, и падает в обморок» [98]. Обостренная чувствительность парадоксальным образом приводит к онемению чувств.
Однако такое противоречие было присуще даже самой авторитетной теории чувствительности того времени, а именно работам Галлера, где это жизненно важное свойство приближалось к своей противоположности – смерти. В экспериментах Галлера на животных чрезмерная чувствительность определенного органа могла привести к летальному исходу. Вероятно, именно поэтому смертность стала критерием чувствительности [99]. В русском контексте эта идея в несколько измененном виде вновь появляется в трактате Радищева «О человеке, о его смертности и бессмертии», где русский писатель применяет теорию Галлера к анализу физиологических и философских основ полового акта. По мнению Радищева, этот акт сопровождается обострением двух галлеровских свойств и, как следствие, может оказаться смертельным для человека:
Раздраженность всех частей тела, ею одаренных, чувствительность тех, коим она свойственна, возвышаются в сию минуту до такой степени, что, кажется, тут предел бывает жизни. И действительно были примеры, что люди в соитии жизни лишались [Радищев 1938–1952, 2: 42] [100].
Радищев трактует процесс зачатия как передачу жизненной силы: в акте создания новой жизни человек отдает свою собственную, частично или полностью. Конечная причина такой смерти (или почти смерти), по Радищеву, лежит в высшем порядке вещей: «Иначе быть тому нельзя; се настоит прехождение от ничтожества к бытию, се жизнь сообщается» [там же: 42]. И все же он прибегает к современной научной теории, чтобы объяснить точный физиологический механизм этого процесса; теории, которая разделяла органы на «чувствительные» и «раздражительные» и которая парадоксальным образом связывала смерть с крайним проявлением этих двух жизненных качеств [101].
Таким образом, литература и наука XVIII века обеспечили конкретную физиологическую основу для универсального «желания смерти», присущего романтической страсти, как теоретизировал Дени де Ружмон в своей классической книге «Любовь и Западный мир» [Rougemont 1983]. Научная теория чувствительности и дебаты о местонахождении души в теле нашли отклик в литературе сентиментализма, которая не только разработала сложную анатомию эмоций в целом и любви в частности, но и обновила драматический и противоречивый механизм любви как болезни. В сентименталистских литературных примерах страстная влюбленность – это интенсивное чувство души, которое является самой сутью жизни, распространяется по телу либо через нервы, либо через кровь, и вызывает омертвение физических ощущений и, возможно, смерть. Такой взгляд на потенциально смертельную опасность, которую представляет собой страстная любовь для утонченного, чувствительного существа, разделяла, что немаловажно, и медицина того времени. Наряду с развивающейся прозой зарождающаяся русская медицина пыталась постичь эту вездесущую болезнь и предложить квазинаучный взгляд на это состояние.
Литература и медицина о любви как о патологии
Сближение нейрофизиологического и поэтического дискурсов в литературе конца XVIII века сопровождалось аналогичным процессом в медицинских трудах, что свидетельствует о тесном взаимодействии русской медицины и литературы в эпоху обостренной чувствительности [102]. Русская медицинская мысль 1790-х годов была таким же продуктом эпохи сентиментализма, как литература и журналистика. Первый русский медицинский журнал «Санкт-Петербургские врачебные ведомости» появился во время расцвета сентиментализма в России, в 1792–1794 годах, последовав за «Московским журналом» Карамзина и предвосхитив квинтэссенцию сентиментализма – литературный журнал «Приятное и полезное препровождение времени» (1794–1798). Две интеллектуальные области, медицина и литература, разделяли одну и ту же философскую задачу: объяснить природу психической жизни человека и ее связь с телом. В программе «Санкт-Петербургских врачебных ведомостей» первой целью журнала было заявлено именно «уяснить природу человека», а далее следовали более конкретные медицинские проблемы [103]. Наряду с материалами чисто практического и полупрофессионального характера журнал предлагал большое количество квазимедицинских статей, больше напоминающих сентиментальные эссе и посвященных излюбленным темам сентименталистской литературы, таким как природа (особенно горы, с непременными ссылками на Руссо), меланхолия, любовь, страсти и т. д. [104] Формат журнала, что интересно, изначально задумывался как переписка между профессиональными врачами: первый вариант названия журнала был «Беседующие врачи, или общеполезная врачебная переписка» [Мирский 1995: 136]. Эпистолярная форма журнала также должна была перекликаться с литературной жанровой системой того времени.
Однако контакты между двумя сферами не ограничивались тематическим взаимовлиянием. Литературный и медицинский дискурсы, имевшие общую концептуальную и терминологическую основу – нервы и чувствительность, – также значительно пересекаются в этот период в России. Если писатели и поэты-сентименталисты, как мы видели, прибегали к языку медицины и физиологии, то медицинские авторы также перенимали сентименталистскую лексику и использовали ее в более строгом терминологическом смысле. Автор статьи «Для любителей учености» описывает анатомию мозга с помощью таких ключевых для сентиментализма слов, как «тонкий и нежный»: части мозга «нежносоставляющие», их «нежность и тонкость» «описать не возможно» [105]. Когда в статье о лихорадках в «Санкт-Петербургских врачебных ведомостях» даются практические медицинские советы, постоянно упоминаются люди «нежного и чувствительного сложения», и эта группа пациентов выделяется как требующая особых методов лечения и лекарств [106]. В другой публикации журнала отмечается особая реакция «нежных людей» на контрасты температур [107]. Это представление о «сентиментальном» физическом строении было, очевидно, общим местом в физиологическом дискурсе того времени. Радищев, получивший некоторое медицинское образование, считал врожденную склонность людей к сочувствию «следствием нежности в нервенном сложении и раздражительности в сложении фибров» [Радищев 1938–1952, 2: 54] [108]. Таким образом, «чувствительный человек» (или даже человек как таковой) предстает в научных и медицинских трудах сентименталистов не только эмоционально утонченным, но и физически и анатомически хрупким [109].
Взгляд на телосложение чувствительного человека как на исключительно уязвимое прослеживается в художественной литературе того периода и особенно остро проявляется в многочисленных случаях любви как болезни, описываемых писателями-сентименталистами. Сентиментальная героиня Львова Леокадия, как мы помним, теряет сознание, потому что физически «не можетъ преодолеть своей чувствительности». В другой повести того же автора, «Даша, деревенская девушка» (1803), героиня, узнав о смерти возлюбленного, «надорвалась с тоски», легла в постель и умерла через девять дней [Русская сентиментальная повесть 1979: 68]. Хотя вера в то, что человек может умереть от чрезмерной печали, известна по крайней мере со времен «Одиссеи» Гомера и давно породила богатую традицию «меланхолии», диагноз «надорвалась с тоски» с его очевидным физическим подтекстом был подчеркнуто нов [110]. Довольно загадочный с медицинской точки зрения, он все же четко отражает веру в то, что интенсивная эмоция, резкое «прикосновение» к душе может быть слишком сильным для физической конституции чувствительного человека (точно так же, как физическое прикосновение к чувствительным органам, доведенное до крайности, приводило к летальному исходу в экспериментах Галлера на животных).
Наряду с писателями-сентименталистами, врачи того времени твердо верили в разрушительное физическое воздействие сильных чувств и считали любовь сильнейшей из всех эмоций и, следовательно, самой опасной для здоровья человека