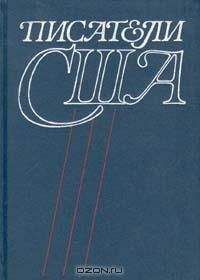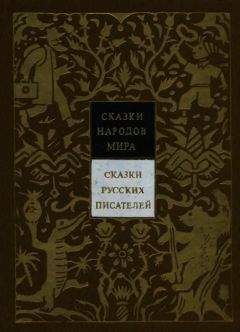свою тему? Неужели рассказ о банкире, который изменяет своей жене и, пытаясь удовлетворить все прихоти любовницы, теряет на финансовых махинациях состояние, сколько-нибудь выиграет оттого, что будет мастерски показано банковское дело, наша система кредитов, биржевые операции? Разумеется, если рассказ слабоват, он в каком-то смысле выиграет от этих подробностей — от довеска говядины чаша весов не может не опуститься. Только стоит ли писать про все эти биржевые операции и банковское дело? Имеют ли подобные вещи прямое отношение к художественной фантазии?
А как же Бальзак, немедленно возразите вы? Да, конечно, Бальзак добивался в романе безусловной достоверности (и зашел в этом так же далеко, как Вагнер, добивавшийся сценической достоверности в музыкальной драме). Добивался он этого, надо сказать, со страстью первооткрывателя, с пламенной одержимостью на редкость пытливого ума. Но если в огне такой печки не закалились и не обрели четкость форм различные предметы быта, то ничей ум на это не способен. Воссоздать на бумаге Париж как он есть, с его домами, коврами, едой, винами, игрой в наслаждения, деловой и финансовой игрой,—какой грандиозный замысел, но... недостойный, если разобраться, настоящего художника. Чем больше ему удавалось обрушить на страницы своих книг кирпичей, известки, мебели, описаний постепенного банкротства, тем дальше удалялся он от своей цели. Те, благодаря кому он жив в нашей памяти,— его создания, само воплощение алчности и скупости, честолюбия, .гордыни и нравственного падения—■ вызывают к себе сегодня не меньший интерес, чем тогда. Что до их материального окружения, описать которое стоило писателю такого труда и мучений, то наш взгляд на этом не задерживается. Довольно показали нам и всевозможных интерьеров, и «историй делового человека» со времен Бальзака. Город, выстроенный им на бумаге, уже рушится. Стивенсон говорил, что с удовольствием прошелся бы по большинству бальзаковских «описаний»,—а ведь он предпочитал его всем современным писателям. Зато найдется ли человек, который взялся бы вычеркнуть хотя одно предложение в новелле Меримё? И кому нужны дополнительные подробности относительно того, как Карменсита и ее подружки на фабрике набивали сигары? Это новый тип романа? Безусловно, и разве он не лучше прежнего?
В нашем разговоре не может не всплыть имя другого великого писателя. Почти так же, как Бальзак, любил все материальное Толстой, которого тоже весьма занимало, как приготовляются блюда, как кто одевается и как обставляются Дома. Однако здесь обнаруживается решающее отличие: одежда, блюда, незабываемая обстановка старомосковских особняков-—» все это, кажется, существует не столько в сознании автора, сколько в эмоциональном фоне самих персонажей, все это составляет настолько неотъемлемую часть человеческих переживаний, что получается великолепный сплав. Когда происходит подобное соединение, достоверность перестает быть просто достоверностью— она становится одним из элементов бытия.
Роман, если он результат художественной фантазии, не может быть одновременно облечен в журналистскую форму, пусть даже яркую и живую. Из многоликого искрящегося потока действительности автор должен отбирать лишь тот вечный материал, из которого создается искусство. Судя по ряду обнадеживающих признаков, кое-кто из молодых пытается покончить с простым жизнеподобием и, следуя примеру современной живописи, пропускает все материальное и социальное обрамление своих героев сквозь призму воображения, не столько перечисляет факторы их существования, сколько намекает на них. Чем выше искусство, тем оно проще. Романист должен разучиться писать, после того как научился это делать; так современный художник, научившись рисовать, постигает в дальнейшем, когда следует полностью пренебречь техникой, когда следует подчинить ее высшему, истинно верному эффекту. Думается, что, идя только в этом направлении, роман может превратиться в нечто более гибкое и совершенное, чем все те бесчисленные сочинения, которые мы имели в прошлом.
Одно из самых ранних романтических повествований может послужить хорошим примером для тех, кто пришел в литературу позже. Насколько верно в «Алой букве» при описании места .действия автором схвачен самый дух искусства. Едва ли выпускника колледжа, корпевшего над своими будущими проповедями, переносили в другую эпоху только затем, чтобы просветить насчет нравов, костюмов и меблировки домов времен старых пуритан. Материальное обрамление повествования подается как бы неосознанно—невидимой, хотя и твердой рукой художника,— а не подчеркивается дешевыми жестами балаганного зазывалы или механическими движениями заводной игрушки в витрине магазина. Насколько мне помнится, за туманной грустью этой книги, за ее особой тональностью вообще трудно разглядеть предметы, окружающие того или иного персонажа, их присутствие скорее угадывается в сумеречном освещении.
Не назвать, а только намекнуть—вот, в сущности, к чему сводится творчество. Необъяснимое присутствие вещи неназванной, отголосок, угаданный, а не услышанный, настроение, запечатленное в слове, эмоциональная подкладка факта, явления или поступка — вот что придает роману, и драме, и, конечно, поэзии их наивысшую ценность.
От достоверности, когда к ней прибегают, чтобы описать движения ума или физические ощущения, обычно так же мало толку, как и от достоверных описаний материального мира. Роман, перегруженный физическими ощущениями, сродни роману, перегруженному реквизитом, и есть не что иное, как каталог. Достаточно взять книгу вроде «Радуги» Дж. Г. Лоуренса, чтобы понять, как велика дистанция между переживаниями и простейшей реакцией органов чувств. Лабораторные опыты по изучению того, как различные органы реагируют на сенсорные раздражители, могут привести к потере персонажами всего человеческого, к превращению их в конечном счете в нечто звероподобное. Можно ли вообразить себе что-либо ужаснее, чем история Ромео и Джульетты, пересказанная в прозе Дж. Г. Лоуренсом?
Как было бы прекрасно—выбросить весь этот реквизит в окно, а с ним заодно всю бессмысленную риторику по поводу наших физических ощущений, все старые, давно набившие оскомину шаблоны, чтобы помещение стало пустым, как сцена в Греческом театре или келья, на которую сошла божья благодать, и пусть бы на этой голой сцене разыгрывались страсти, великие и малые, ибо даже детская сказка, как и трагедия, погибнет, если в нее натолкать всего сверх меры. Дюма-старший провозгласил великий принцип, когда сказал, что для создания драмы человеку довольно одной страсти и четырех стен.
1922 г.
ПОВЕСТВОВАНИЕ В РАССКАЗЕ
I
Современный короткий рассказ, как и современный роман, судя по всему, зародился—по крайней мере оформился в своем нынешнем виде—во Франции. Пока английские писатели медленно нащупывали правильное направление, французы и русские уже преуспели в этом жанре.
С тех пор короткий рассказ развивался, пойдя по новым руслам, благодаря таким