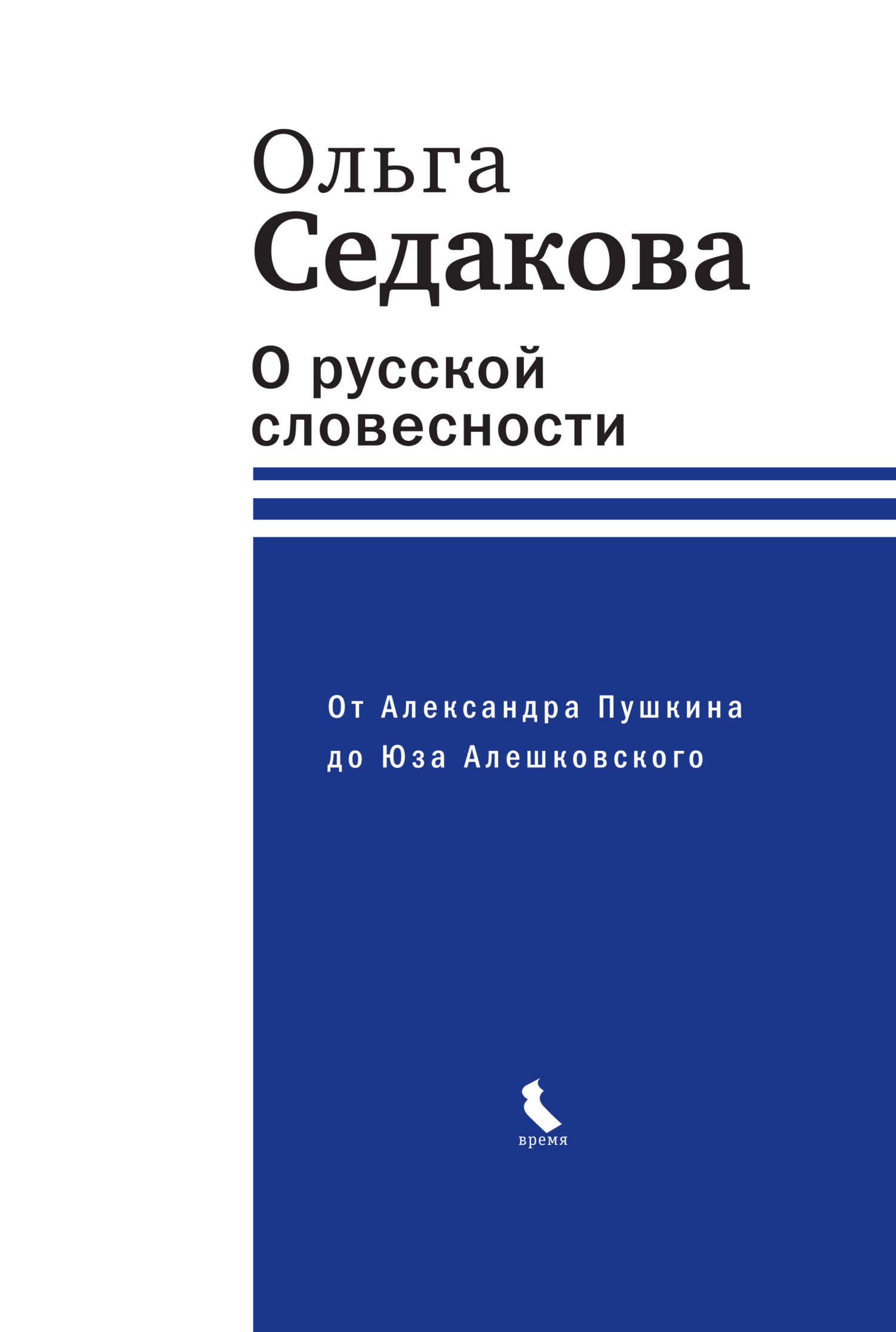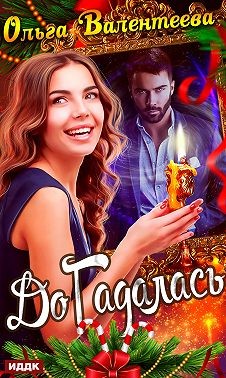вышине“ „над возмущенною Невою“. –
О. С.), как часть ее, дан образ Евгения».
Публикация исследования С. Б. Рудакова задержалась на 38 лет. В истории изучения МВ можно вспомнить только сжатое проницательное замечание Ю. Н. Тынянова, открывающее в перспективе похожий путь: «В „Медном всаднике“ „главный герой“ (Петр) вынесен за скобки: он дан во вступлении, а затем сквозь призму второстепенного». – Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1969. С. 154.
Как ни странно, тонкие наблюдения над стихом МВ поэтов (В. Брюсова, Андрея Белого) и литературоведов (Л. И. Тимофеева, г. Н. Поспелова) или не выводили к содержательной интерпретации, или слегка уточняли «прозаическую», основанную на сюжете и персонажах, трактовку.
Вероятно, такое тематическое распределение инвариантов «свободы» (или «изменчивости») и «закона» (или «неизменности»), в одной теме оказавшихся «положительными» и гармонизованными, а в другой – «отрицательными» и противопоставленными, ничего существенно нового не прибавляет к идее контрастного и амбивалентного поэтического мира Пушкина, вслед за М. О. Гершензоном (Мудрость Пушкина. М., 1919) блестяще разработанной А. К. Жолковским (указ. соч.). Но дуальность удваивается в таком трехчленном построении конфликта, а противопоставление тем оказывается совсем не амбивалентным. Я думаю, что трехчленная модель конфликта, в котором третий член прямо не вовлечен в действие: «Мне кажется, он с нами сам-третей» – вообще характерней для позднего Пушкина. По такой модели построены и конфликты «Маленьких трагедий»: «дар» и «труд» (конкретные воплощения тех же инвариантов) противопоставлены внутри темы Сальери, тогда как Моцарт противостоит этому конфликту в целом и так же, как Петр «Вступления», «вынесен за скобки» происшествия. «Расточителю» и «скупцу» в целом противопоставлен «вынесенный за скобки» Герцог и т. д.
Тынянов Ю. Н. Проблема стихотворного языка. М., 1965.
Обширные сведения собраны Н. В. Измайловым (указ. соч.) и K. Lednicki. Pushkin’s Bronze Horseman. The Story of a Masterpiece. Berkeley & Los Angeles, 1955.
В представление «прозаического» здесь входят не просто формально-стилистические свойства нарративной прозы натуралистического рода («фламандской школы пестрый сор»), не только характерные для нее персонажи и ситуации – но целая область реальности, удаленная от высокой культурной традиции и различимого действия «великого», человеческого и сверхчеловеческого, «тьма низких истин» голого быта и факта. Эпатирующее столкновение такой «поэзии» и «прозы» дает молодой Пушкин: «К** поэтически описывала мне его ‹бахчисарайский фонтан›, называя la fontaine des larmes. Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из заржавой железной трубки по каплям падала вода». – ПСС, IV, 202.
Андрей Белый. Ритм как диалектика и «Медный всадник». М., 1929.
«В патетическое слово говорящий вкладывает себя до конца, без всякой дистанции и без всякой оговорки. Патетическое слово ‹в лирике› кажется прямо интенциональным словом». – М. М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 206.
Нельзя сказать, в какой мере сознательна библейская аллюзия; тем не менее она бесспорна: творение у воды, в безвидной тьме, творение словом («Здесь будет» – «да будет»), творение светового явления (см. дальше). Каждый раз, изображая нерукотворное, чудесное создание, Пушкин говорит о контрастном «материале», отзывающемся воле творца: он послушен и ярко своеволен (ср.: «Ретив и смирен верный конь» – «Полтава»).
В стилизованном сказочном рисунке мы узнаем ту же столицу: «стены с частыми зубцами» (ср. «оград узор чугунный»), «блещут маковки церквей» (ср. «и светла Адмиралтейская игла»), «в колымагах золотых» (ср. «бег санок вдоль Невы широкой»), «оглушительный трезвон» (ср. «твоей твердыни дым и гром»). Я не хочу сказать, что город Салтана – это Петербург, наоборот: Петербург дан как столица тридесятого царства.
Такое же движение навстречу творцу организующейся стиховой материи: «рифмы… бегут», «стихи свободно потекут». «Нерукотворность» вдохновения составляет высшую ценность в пушкинской концепции «святого искусства». Здесь начало того «первичного религиозного опыта, который Пушкин черпал в самом процессе поэтического творчества (Dichtertum)». R.-D. Keil. Nerukotvornyj. Beobachtungen zur geistigen Geschichte eines Wortes. – Studien zu Literatur… S. 301. Так что одно то, что петровское историческое творчество описано тем же способом, что и поэтическое, говорит нам все о пушкинском отношении к нему в данном описании.
«Россия была дана Пушкину ‹…› в аспекте государства, Империи». – Г. П. Федотов. Певец империи и свободы. Нью-Йорк, 1952. С. 244. Г. П. Федотов хорошо называет отношение Пушкина к Империи эросом («аполлинический эрос Империи»), а к свободе – этосом («этос свободы»).
Прозаизмы МВ – прежде всего семантические прозаизмы, то есть употребление слов в их бытовом, однозначном, нестилевом значении:
что ведь есть
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка
(монолог Евгения). Ср. другое, поэтическое употребление того же слова:
Или во сне
Он это видит? Иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой…
Семантические прозаизмы лежат в основе темы Евгения – так же, как тема Петра тяготеет к патетическому слову.
См. анализ ритмической повторности сцен «выхода из себя»: а) Петербург из болот, б) Нева из берегов, в) Евгений, и контрастного к ним мотива неподвижности Кумира. Конфронтацию этих двух мотивов дает кульминационная сцена погони. – А. К. Жолковский. К описанию смысла… С. 5–7. Само столкновение подвижного (живого) и неподвижного (мертвого) Жолковский справедливо считает основным инвариантом поэтического мира Пушкина (там же). Такая конкретизация этого контраста, как в МВ: внезапное оживление неживого, обнаружение одушевленности неодушевленного, – широко разыграна у Пушкина. Нужно заметить, что «оживление» – больше чем излюбленный сюжетный ход или психологический прием. Так, в МВ «оживает» само повествование, от равнодушно-иронического рассказа (первый монолог Евгения) внезапно возвращаясь к патетической лирике «Вступления» (сцены: Евгений на льве, Евгений перед Кумиром). Так оживают и другие повествования, начатые иронически и внутрилитературно: умерший анекдот оживает как реальное событие («Пиковая дама», «Гости съезжались на дачу»); из маски, иронического «типа», выходит живое лицо (Онегин, Гринев, Германн и многие еще персонажи); из иронического слова – лирическое (отступление о «ножках») и т. д. Такое оживление, одушевление, их внезапное появление там, где предполагалось мертвое и неодушевленное, – не архисюжет, а архиявление пушкинского мира, поэтического мира,