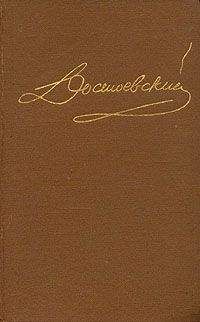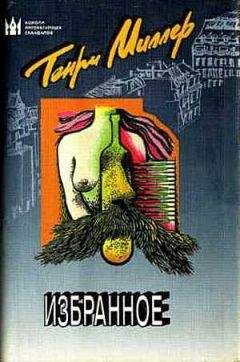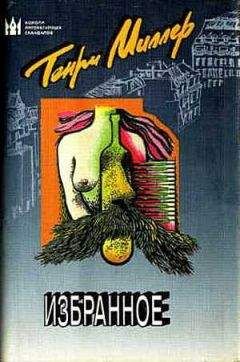и наказания» вроде следующего:
Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца, дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года и о свидании с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте? [Достоевский 6: 418]
Этот отрывок читается как поэтическая квинтэссенция первой части «Летней поры», где Горянчиков подробно описывает радости жизни бродяг.
Глава «Летняя пора» примечательна также описаниями природы – одними из самых пространных из когда-либо написанных Достоевским. Один отрывок, в частности, повествует о чуде прихода весны:
Кроме того, что в тепле, среди яркого солнца, когда слышишь и ощущаешь всей душою, всем существом своим воскресающую вокруг себя с необъятной силой природу, еще тяжелее становится запертая тюрьма, конвой и чужая воля; кроме того, в это весеннее время по Сибири и по всей России с первым жаворонком начинается бродяжество: бегут божьи люди из острогов и спасаются в лесах. После душной ямы, после судов, кандалов и палок бродят они по всей своей воле, где захотят, где попригляднее и повольготнее; пьют и едят где что удастся, что бог пошлет, а по ночам мирно засыпают где-нибудь в лесу или в поле, без большой заботы, без тюремной тоски, как лесные птицы, прощаясь на ночь с одними звездами небесными, под божьим оком [Достоевский 4: 173–174].
Этот выразительный фрагмент кажется вариацией на тему знаменитых вступительных строк романа Кеннета Грэма «Ветер в ивах» (1908). В обоих произведениях – ив принадлежащем к ранним образцам «лагерной литературы», и в относящемся к британской детской классике рубежа веков – читатель встречает сходное сентиментальное преклонение перед волшебством весны, сходное изображение всеобщего смятения.
Как и рассказчика из «Записок из Мертвого дома», Раскольникова недолюбливают товарищи по каторге, хотя, в отличие от Горянчикова, он мало рассказывает читателям об их жизни. Но через посредническое присутствие Сони, чьи письма к Дуне и Разумихину стилистически напоминают повествовательную манеру Горянчикова, Достоевский находит средства для описания способности каторжников к любви. Рассказчик сообщает:
Письма Сони казались сперва Дуне и Разумихину как-то сухими и неудовлетворительными; но под конец оба они нашли, что и писать лучше невозможно, потому что и из этих писем в результате получалось все-таки самое полное и точное представление о судьбе их несчастного брата.
Письма Сони были наполняемы самою обыденною действительностью, самым простым и ясным описанием всей обстановки каторжной жизни Раскольникова. Тут не было ни изложения собственных надежд ее, ни загадок о будущем, ни описаний собственных чувств. Вместо попыток разъяснения его душевного настроения и вообще всей внутренней его жизни стояли одни факты, то есть собственные слова его, подробные известия о состоянии его здоровья, чего он пожелал тогда-то при свидании, о чем попросил ее, что поручил ей, и прочее. Все эти известия сообщались с чрезвычайною подробностью. Образ несчастного брата под конец выступил сам собою, нарисовался точно и ясно; тут не могло быть и ошибок, потому что все были верные факты [Достоевский 6: 415].
Сходство Сони-рассказчицы с Горянчиковым поразительно. Эту характеристику Сони как автора можно считать – за исключением нескольких отрывков, таких как процитированный выше романтичный фрагмент о природе из «Летней поры», – описанием общей структуры повествования Горянчикова: об этом говорят такие выражения, как «как-то сухими и неудовлетворительными», «самое полное и точное представление», «самою обыденною действительностью», «самым простым и ясным описанием», «ни изложения собственных надежд ее, ни загадок о будущем», «только факты», «образ… выступил сам собою».
Более того, читатели Достоевского, которых интересует развитие его повествовательного голоса, могут увидеть в этой характеристике стиля писем Сони некое предвидение особенностей рассказчика-хроникера Достоевского – того голоса, которым он будет столь выразительно пользоваться в «Идиоте», «Бесах» и «Братьях Карамазовых». Дуня и Разумихин выступают в роли идеальных читателей: сначала им не нравится сухость рассказчика, но затем они заключают, что лучше, чем он, написать нельзя. Письма Сони разительно отличаются от письма матери, полученного Раскольниковым в начале романа. То письмо, с его описаниями, намеками, поручениями, пропусками и неясными мотивами, в значительной мере становится импульсом для последующего развития сюжета. В отличие от него, письма Сони несут печать стиля и повествовательной манеры Горянчикова. Они не создают сюжета; вместо этого они обозначают наиболее общие особенности голоса рассказчика-хроникера, которому предстоит взять слово в следующем романе Достоевского.
В главе «Летняя пора» из «Записок из Мертвого дома» противоположный берег близлежащей реки с обширными просторами открытой степи становится визуальным романтическим символом свободы:
Я потому так часто говорю об этом береге, что единственно только с него и был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселенные, вольные степи, производившие на меня странное впечатление… <…> На берегу же можно было забыться: смотришь, бывало, в этот необъятный, пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Все для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго и разглядишь наконец какую-нибудь бедную, обкуренную юрту какого-нибудь байгуша; разглядишь дымок у юрты, киргизку, которая о чем-то там хлопочет с своими двумя баранами. <…> Разглядишь какую-нибудь птицу в синем, прозрачном воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом: вон она всполоснулась над водой, вон исчезла в синеве… <…> Даже бедный, чахлый цветок, который я нашел рано весною в расселине каменистого берега, и тот как-то болезненно остановил мое внимание [Достоевский 4: 178].
Образ противоположного берега реки, наблюдаемого из каторжного острога, вновь является в преобразованном и перевоплощенном виде в финале «Преступления и наказания». Несмотря на то что вновь изображается весна, картина лишена романтических и сентиментальных нот. Скромное и сильное описание берега реки сливается с видением пасущего свои стада ветхозаветного Авраама.
С высокого берега открывалась широкая окрестность. <…> Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его [Достоевский 6: 421].
Прошлое сливается с настоящим, создавая вневременный образ. (Чехов обратился к тому же приему в своем наиболее близком Достоевскому рассказе «Студент» [47].) Эти мотивы из «Мертвого дома» и «Преступления и наказания» предвещают также и сцену в «Братьях Карамазовых», где Алеша вспоминает чудо в Кане Галилейской и где библейское прошлое