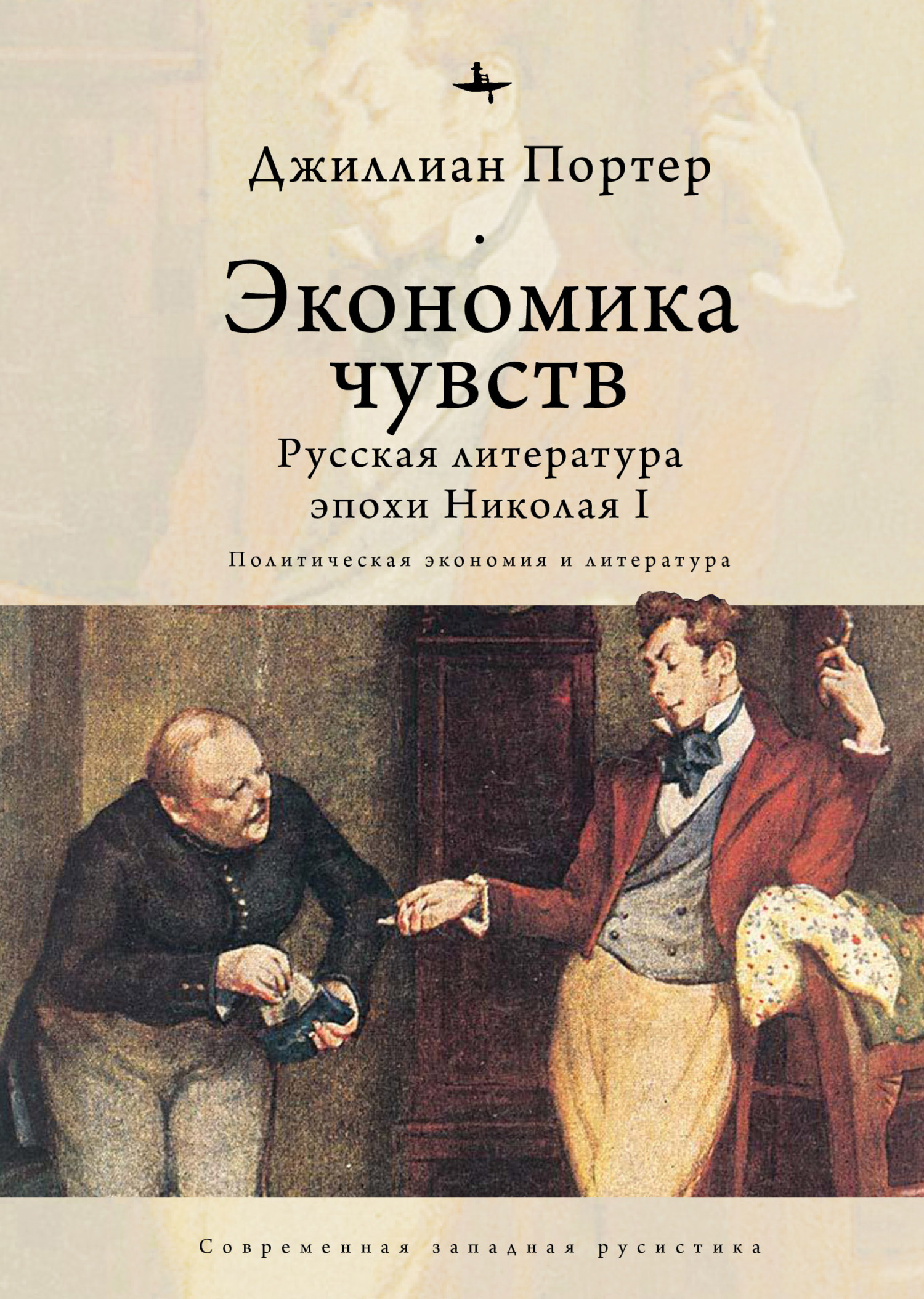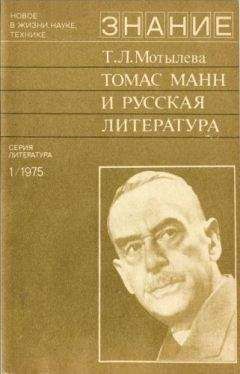«узнать
свое место в большом свете, занять его
совершенно, но не переходить ни на шаг за пределы <…> уравновесить себя с другими на том месте, которое вам
назначат» [О светских обществах 1825:108] [49]. Если хороший тон предусматривает необходимость знать свое место и «ни на единый шаг» не переходить границ, тогда амбиция, побуждающая как раз к выходу за предписанные рамки, есть, безусловно, признак дурного тона. Разрываясь между парадоксальной амбицией подняться в «хорошее общество» и неуместностью этой амбиции, Голядкин постоянно оказывается «не на своем месте».
Причины смущения, описанные социологом Э. Гофманом в классическом очерке «Смущение и социальная организация» («Embarrassment and Social Organization», 1956), очень хорошо объясняют затруднительное положение Голядкина в «Двойнике» [50]. Гофман пишет:
Часто важные каждодневные случаи смущения возникают, когда проецируемое Я как-то противостоит другому Я, которое, хотя и валидно в других контекстах, не может сохраняться здесь в гармонии с первым [Гофман 2009: 132].
Для Гофмана, как и для Достоевского, смущение – это тональный диссонанс, возникающий в ходе социальных взаимодействий в обществе с различными уровнями иерархии: одна из главных причин, по которым люди проецируют разные Я, заключается в том, что от них ожидается разное поведение в отношении лиц с более высоким или более низким общественным положением.
Теория смущения Гофмана может помочь нам разобраться во взаимосвязи между амбицией и характерным аффективным регистром, или литературным тоном, «Двойника». Достоевскому интересно не только то, куда заведет амбиция его героя, он также исследует, насколько амбиция может вызывать смущение и неловкость. Когда совсем убитый Голядкин вспоминает, как его выгнали с праздника Клары Олсуфьевны, ощущая, как «один червячок <…> точит даже и теперь его сердце» [Достоевский 19726:157], читатели, знакомые с червем честолюбия в рассказах Булгарина и Гоголя, могут отметить, что фокус здесь смещается с диагноза (пародийного или нет) патологического стремления к разрушительному воздействию этого стремления на самолюбие. Более того, даже не отождествляя себя с Голядкиным или не зная, как относиться к подобной амбиции, читатели «Двойника» способны почувствовать испытываемый героем дискомфорт. Как замечает Гофман, когда речь идет о смущении, «границы эго оказываются особенно слабыми» [Гофман 2009: 123]. Смущение очень заразительно, оно не только пронизывает весь текст, но и выходит за его границы, принимая форму эмоциональной тональности, которая передается читателям. И все же, если «неуклюжий» социальный тон голядкинского поведения проистекает из дисгармонии его социальных Я в жестко стратифицированном обществе и из подавления его амбиции, «смущенный» литературный тон «Двойника» также является результатом странного, дезориентирующего столкновения между французским ambition и русской амбицией.
В этой главе предлагались многочисленные дополняющие друг друга объяснения, почему амбиция в русской литературе начала XIX века предстает как неуместная. В эпоху, когда амбиция считалась определяющим эмоциональным явлением постнаполеоновской Европы, перенос заразного литературного и медицинского дискурса из Франции в Россию побудил русских авторов создавать произведения об амбиции, в которых поднимались, на первый взгляд, неразрешимые вопросы о российской социальной организации и социальной мобильности. И главный из них – следует ли считать стремление к общественному возвышению нормальным (именно такое понимание начало активно формироваться в постнаполеоновской Европе)? Даже в свете того, что Табель о рангах теоретически открывала возможности для социальной мобильности все большему количеству русских людей, ограничения, налагаемые на личную независимость в самодержавном государстве, культурные табу в отношении индивидуализма или стремления к экономическому благосостоянию и даже сам русский язык, в котором отсутствовало слово для обозначения легитимного стремления к возвышению, работали против нормализации амбиции в России.
Когда Булгарин, Гоголь и Достоевский, следуя французской традиции, трактовали амбицию как занятный род сумасшествия, экзотичность амбиции усиливалась за счет того, что европейская форма этой «болезни» была перенесена в российскую среду. Эта новая среда была отмечена, с одной стороны, недавним крахом реформаторских амбиций декабристов, а с другой – противоречивыми оценками социальной амбиции в периодической печати. Даже официальные и полуофициальные проправительственные издания одновременно порождали и осуждали амбицию. Таким образом, парадигма французского дискурса патологической амбиции процветала в русской литературе уже после того, как французские авторы, такие как Бальзак и Стендаль, начали от нее отходить.
Генеалогия безумной амбиции, представленная в этой главе, есть лишь начало истории межнационального культурного обмена, где динамическая сила этой французской страсти способствовала развитию русской прозы. А во второй главе продолжает историю таинственный гость, которого ошибочно приняли за Наполеона.
Рис. 5. Карикатура на Н. В. Гоголя в доме Зинаиды Волконской в Риме. Приписывается Ф. Бруни. Конец 1830-х годов. Девочка на рисунке – дочь Волконской. Воспроизводится по изданию: Trofimoff A. La Princesse Zenaide Wolkonsky (Rome: Staderini, 1966), [Trofimoff 1966]
Как ни глуп Индейский петух, как ни глуп Русский, выехавший за границу и жалеющий, что при нем нет крепостного человека, как ни глупы Фрак и Мундир, два глупейших произведения 19 века, – но вряд ли они все вместе глупее моей головы. Ничего решительно не могу Вам из нее выкопать, Марья Александровна. Чепуха и дичь в ней такая, как в русском губернском городе; а бестолково, как в комнате хозяина на другой день после заданной им вечеринки, которою он сам был недоволен, над которою потрунили вдоволь гости и после которой ему остались только: битая посуда, нечистота на полу и заспанные рожи его лакеев.
Н. В. Гоголь. Запись в альбоме
В записи на странице дамского альбома, не помеченной датой, Н. В. Гоголь сравнивает собственную голову с грязной комнатой на другой день после неудачной вечеринки. Владелицей этого альбома была Мария Власова, чья младшая сестра Зинаида Волконская считалась одной из самых блистательных хозяек салонов в России XIX столетия. Салон Волконской пользовался известностью в Москве конца 1820-х годов, но и после ее переезда в Рим в 1830-е годы она продолжала принимать у себя представителей российской культурной элиты. Живя в Италии, где он работал над первым томом «Мертвых душ», Гоголь часто бывал на вилле Волконской. М. А. Власова, которая вела дом и устраивала обеды, была с ним в дружеских отношениях и, очевидно, попросила написать что-нибудь в ее альбоме [51]. Отвечая на доброе расположение продуманным отказом, Гоголь, постоянный гость, принял роль плохого хозяина, которому и предложить нечего.
На другой странице альбома можно найти юмористический набросок, приписываемый Ф. А. Бруни (см. рис. 5). Этот набросок – своеобразная иллюстрация альбомной записи Гоголя: изображенный на нем в виде угрюмого гостя с больной головой, писатель рассеянно глядит