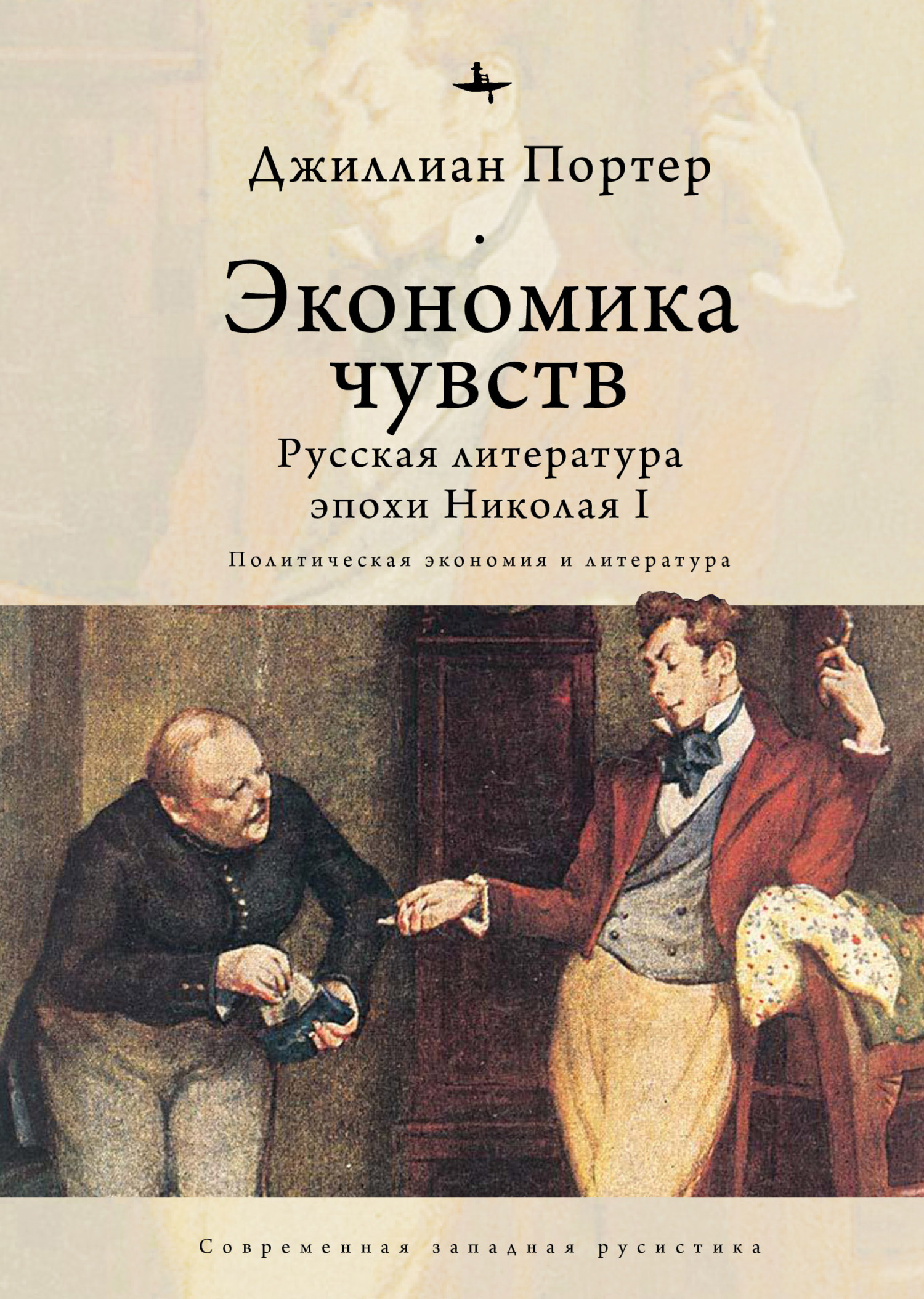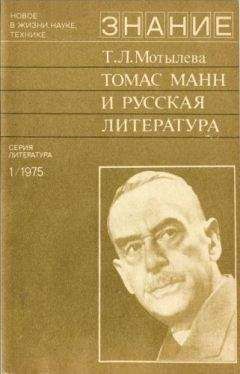в газету (или поверх нее), не обращая внимания на девочку, с интересом на него глазеющую. Девочка – дочь Волконской, наставником которой одно время был Гоголь [Trofimoff 1966: 123]. Невнимание гостя к ее призывам как бы напоминает о той записи-отказе, столь мастерски сочиненной Гоголем в альбоме Власовой. Воспроизводя сцены чтения и письма, в которых Гоголь предстает как гость, не способный или не желающий, вопреки ожиданиям, отплатить добром за добро, эти документальные свидетельства жизни писателя за границей воплощают в себе идею скверного гостеприимства, которая, по моему мнению, и определяет концепцию «Мертвых душ».
Гоголевский роман предстает в виде цепочки эпизодов неудавшегося гостеприимства. Амбициозный герой, Павел Иванович Чичиков, разъезжает по российской провинции, покупая «мертвые души» (то есть крепостных, которые уже умерли, но по-прежнему числятся в ревизских сказках живыми и, стало быть, считаются облагаемой налогами собственностью), останавливаясь в гостиницах и трактирах, где предлагается гостеприимство за плату, и в домах местных чиновников и помещиков. Каждый раз, переступая порог очередного пристанища, Чичиков приспосабливается к неписаным законам конкретной эмоциональной экономики [52]. Лавируя между сделками тут и там, вечный гость досыта ест за разными столами, потихоньку накапливая документы на владение крепостными, которые дадут ему желанное положение в обществе. И все-таки во всех этих сценах гастрономического, эмоционального и экономического взаимообмена что-то не складывается: чувства задеты, аппетиты не удовлетворены. И даже там, где ожидания персонажей оправдываются, читателей Гоголя не покидает ощущение беспокойства, поскольку поэтика отвращения препятствует течению нарратива о социальных столкновениях, пищеварительном процессе и экономическом прогрессе.
«Мертвые души» уже давно считаются произведением, свидетельствующим о конфликте ценностей в николаевской России. Друг и современник Гоголя С. П. Шевырев считал, что поэма противопоставила новый императив «брать» традиционному императиву «отдавать». В своем очерке о «Мертвых душах» 1842 года Шевырев называет «приобретателя» Чичикова представителем современной жизни, замечая, что «страсть к приобретению есть господствующая страсть нашего времени». Шевырев подчеркивает контраст между этой новой экономической страстью и врожденной русской «чертой», проявляющейся у помещиков, которых посещает Чичиков: «гостеприимство, это русское радушие к гостю, которое живет в них и держится как будто инстинкт народный». И все же, несмотря на попытки Шевырева противопоставить одно другому, оказывается, что стремления брать и отдавать в чем-то сродни: оба можно сравнить с работой Гоголя над «Мертвыми душами». Потому что, как признает Шевырев, «Чичиков отличился необыкновенным поэтическим даром в вымысле средства к приобретению» [Шевырев 1842а: 209–210, 219]. Здесь Шевырев ставит «поэта своего дела» из «Мертвых душ» вровень с их автором, и персонаж со своим создателем совместно преобразуют коммерческую логику в поэтический материал. И если в этом смысле Гоголь напоминает своего героя – жадного гостя Чичикова, – то в другом его можно сравнить с другими его персонажами – щедрыми хозяевами.
Называя экспансивный прозаический стиль автора «хлебосольным» (курсив оригинала), Шевырев изображает Гоголя хозяином, отдающим все, что имеет: «Да, в фантазии нашего поэта есть русская щедрость или чивость, доходящая до расточительности, свойство, выражаемое у нас старинною пословицей: все что ни есть в печи, то на стол мечи». В качестве примеров этого повествовательного гостеприимства Шевырев называет множество «чудных полных картинок, ярких сравнений, замет, эпизодов, а иногда и характеров, легко, но метко очерченных», которые «дарит вам Гоголь так, просто, даром, в придачу ко всей Поэме, сверх того, что необходимо входит в ее содержание». Шевыреву подобное словесное изобилие кажется лакомым:
Гоголя можно сравнить с богатым русским хлебосолом, который за роскошным столом своим кроме двухаршинной стерляди, архангельской телятины и прочих солидных блюд предлагает вам множество закусок, прикусок, подливок и дорогих соусов, которые все идут в придачу к неистощимому пиру и неприметно съедаются, заслоненные главными сокровищами щедрого русского хлебосольства [Шевырев 18426:374–375].
Консервативный славянофил Шевырев был склонен считать то, что в его понимании являлось русским «инстинктом» хлебосольства, в конечном счете более сильным и глубоким, чем проникающая в страну «страсть» к приобретательству. Особенное впечатление на него произвело настойчивое гостеприимство скупца-помещика Плюшкина, который, пусть и нехотя, зовет Чичикова к своему столу. Гоголевский рассказчик представляет гостеприимство как присущую русским ценность, торжествующую над плюшкинской жадностью, замечая, что «гостеприимство у нас в таком ходу, что и скряга не в силах преступить его законов» [Гоголь 1978а: 115]. Однако от внимания Шевырева ускользает весь отталкивающий характер предложения Плюшкина: «сухарь из кулича» да немного «ликерчику», куда «козявки да всякая дрянь напичкались» [Гоголь 1978а: 118–119]. И в этой, и в других сценах хлебосольство в гоголевском нарративе гораздо менее аппетитно, чем предполагали Шевырев и многие критики после него.
Если современная парадигма брать и традиционная парадигма отдавать, по мнению Шевырева, столь отчетливо различаются, как же удается их совместить в гоголевской прозе? Как именно взаимодействуют экономика приобретательства и экономика хлебосольства в «Мертвых душах»? И в чем заключается значение чувства омерзения, которое то и дело вызывает у нас дар Гоголя?
Исследователи, которые рассматривали аферу приобретателя Чичикова как ответ на распространение духа коммерции и трансформацию ценностей в аграрной России, оставляют возможность для более глубокого рассмотрения в нарративной экономике Гоголя такой ценности, как гостеприимство [53]. Действительно, несмотря на главенствующее место темы гостеприимства в жизни и произведениях писателя, исследователи творчества Гоголя уделяли ей на удивление мало внимания. Угощения, которыми персонажи потчуют друг друга в «Мертвых душах», и метафорическое угощение поэмой, которое Гоголь предлагает читателям, в целом всегда трактовались в смысле гастрономическом и не связывались с идеей хлебосольства или дара [54]. Внимание к динамике социального и биологического взаимодействия, которую Гоголь задействует в сценах угощения, раскрывает как экономическую ориентацию, так и менее привлекательную оборотную сторону его повествовательных «пиршеств».
Внося свой вклад в существующую критическую литературу по обмену и гастрономии в «Мертвых душах», данная глава тесно сближает экономические парадигмы брать и отдавать, столь тесно соседствующие в гоголевском повествовании. После краткого рассмотрения места гостеприимства в истории и теории дара я перейду к анализу его центральной роли в осмыслении художественной литературой проблем национальной идентичности и крепостного права в России начала и середины XIX века. Обращаясь к Гоголю, я подчеркиваю внимание писателя к теме гостеприимства и связанного с ним социального института покровительства в его литературной карьере и определяю три четко различимых аффективных модуса гостеприимства в его творчестве: жуткого, ностальгического (украинские повести) и омерзительного («Мертвые души»). Я рассматриваю этот роман как кульминацию очарованности Гоголя обменом одновременно экономическим и эмоциональным и показываю, что хотя на первый взгляд он противопоставляет коммерческую амбицию и гостеприимство в силу их подчинения логике «интереса» и «чувства» соответственно, на самом деле