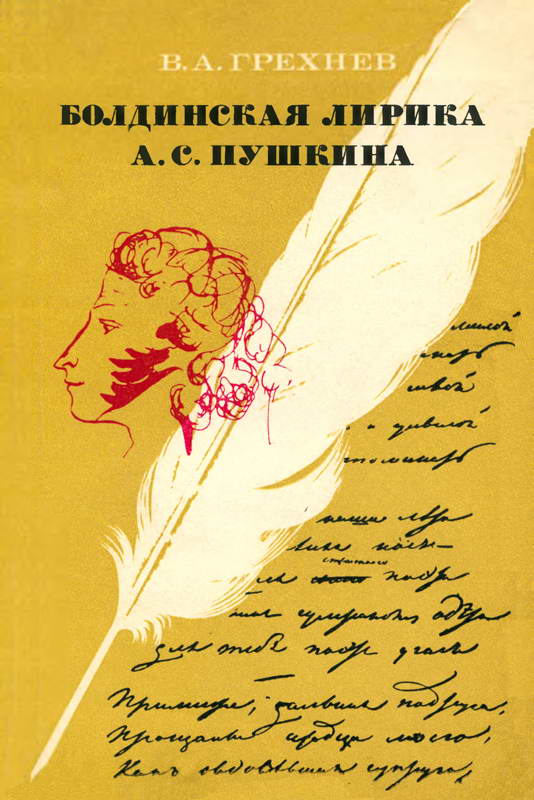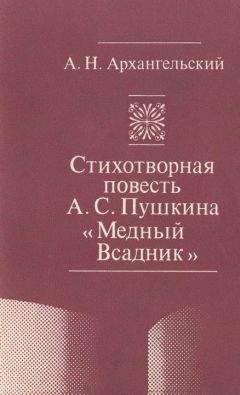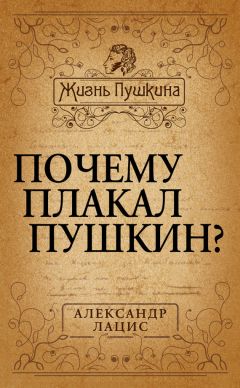ощущением реальных духовных преград, подстерегающих личность.
Мы попытаемся дальше хотя бы бегло, хотя бы пунктиром наметить одно из возможных художественных средостений, в котором пересекаются вечное и современное в творчестве болдинской поры. В болдинской лирике и драматургии (а отчасти и в прозе, в «Выстреле» уж во всяком случае) Пушкин особенно настойчиво исследует тупики безмерно разросшихся, односторонне направленных страстей. И он делает это, надо думать, побуждаемый ощущением реальной опасности, которая таилась в духовной атмосфере 30-х годов. Пушкина, по-видимому, тревожила угроза духовной схимы, самоизоляция личности, утрачивающей представление о широте, многообразии и динамике бытия. Бегство в себя было естественной самозащитой личности в условиях угасания духовных связей в обществе и всестороннего давления на индивидуальность. Самопознание личности, ее глубочайшая сосредоточенность в себе расценивались человеком 30-х годов как идеологическое убежище и как форма компенсации грубо подавляемых «гражданских инстинктов». Но это убежище легко оборачивалось духовной тюрьмой. Одна из зловещих перспектив русской действительности заключалась в том, что мир личности, противопоставившей безобразию жизни уединенные наслаждения духовного бытия, мог трагически сомкнуться в безысходной рефлексии, отрезав себе путь к реальным ценностям объективно исторического порядка. Субъективизм в литературе и общественной психологии 30-х годов, как известно, вырождался порой в заурядную титаноманию, в закосневшую романтическую позу. Но и там, где он сохранял за собой духовные высоты, реальную, а не имитируемую напряженность мироощущения, он мог существовать как живое явление, а не как застывшая духовная маска лишь за счет неразрешимых противоречий и лишь на трагическом пределе.
В 1831 году (18 сентября) П. Я. Чаадаев пишет Пушкину пространное письмо, где обращает внимание поэта на страшные нравственные потрясения, которые суждено пережить современному человечеству:
«Итак, вот что я скажу Вам. Заметили ли Вы, что в недрах мира нравственного происходит нечто необыкновенное, нечто подобное тому, что происходит, как говорят, в недрах мира физического. Скажите мне, пожалуйста, как это на Вас действует? С моей точки зрения этот великий переворот вещей в высшей степени поэтичен, вряд ли вы можете оставаться к нему равнодушным, тем более что поэтический эгоизм может найти себе в этом, как мне представляется, обильную пищу: разве можно оставаться незатронутым в самых сокровенных своих чувствах во время всеобщего столкновения всех элементов человеческой природы… Посмотрите, друг мой: разве воистину не гибнет мир, разве для того, кто не в состоянии предчувствовать новый грядущий на его место мир, это не является ужасным крушением… У меня слезы выступают на глазах, когда я всматриваюсь в великий распад моего старого общества, это мировое страдание» [4] (подчеркнуто нами. — В. Г.). Чаадаев, с его уникально чутким мышлением, умел схватывать духовные процессы истории в их эпохальных очертаниях и у истоков их рождения. В письме к Пушкину он уловил грозные сотрясения исторической почвы, заключавшие в себе опасность для «мира нравственного». Опасность эту не мог не осознавать и Пушкин. Но в отличие от Чаадаева он видел ее и в самом опасении. Это отнюдь не парадокс. Именно в начале 30-х годов Пушкин писал Плетневу: «Не холера опасна, опасно опасение, моральное состояние, долженствующее овладеть мыслящим существом в нынешних страшных обстоятельствах» [5] (3 августа 1831 года). Не очевидно ли, что речь здесь идет не только о холерных страхах. «Мыслящее существо», «нынешние страшные обстоятельства» — многозначительный контекст. В этом речевом окружении само упоминание о холере воспринимается как эмблема иного, глобального бедствия, затрагивающего нравственную сферу человека. Не следует забывать о том, что и образ «чумы» в пушкинском «Пире…» — образ символического размаха. Даже слово «чума» Пушкин писал с большой буквы — «Царица грозная Чума».
По Пушкину, опасно не замечать опасности. Но, по Пушкину же, не менее опасно ее преувеличить, спасовать перед потрясениями эпохи, перед «чумным» разгулом зла, уйти в себя, в «Подвалы» души, чтобы насладиться, подобно «скупому рыцарю», иллюзией духовного обладания миром.
Действительность побуждала к такому уединению. Соблазны его, надо полагать, были знакомы и Пушкину. Обобщающее духовные коллизии эпохи болдинское творчество поэта (а лирика, разумеется, прежде всего) окрашено личным опытом, пронизано отзвуками душевной борьбы.
«Престань и ты жизть в погребах, Как крот в ущельях подземельных…» — эти строки державинского послания «К Скопихину» в рукописи были предпосланы «Скупому рыцарю» в качестве эпиграфа. Пушкин затем снял эпиграф. Он сделал это скорее всего из художнических соображений, возложив воплощение поэтической мысли всецело на художественную ткань трагедии. Эпиграф емок по своей адресации. «Ты» эпиграфа обращено к пушкинским современникам. И в то же время, нерасчлененное в своих предметных контактах, лишенное конкретности, это обращение потенциально включает в свой смысловой круг и личность цитирующего автора. Но главное, разумеется, в том, что эпиграф выводит «на поверхность» символико-философский подтекст трагедии, проецируя его на современность. То, что постигается лишь на общем фоне болдинского творчества: психологическая подоснова его конфликтов, духовные тупики, «погреба» отъединенных от мира страстей — здесь отчетливо проступает в поэтическом сцеплении державинских строк с драматической композицией «Скупого рыцаря». Эпиграф намекает и на внутренний пафос болдинской поры — пафос преодоления, стремления к духовной свободе («престань и ты жить в погребах…»).
В «нынешних страшных обстоятельствах» Пушкину виделся особый смысл в том, чтобы наперекор катастрофически взвихренному течению жизни сохранить в душе ту «всеобъемлемость чувства», о которой он писал Е. М. Хитрово: «Как Вы счастливы, сударыня, что обладаете душой, способной все понять и всем интересоваться. Волнение, проявленное Вами по поводу смерти поэта [6] в то время, когда вся Европа содрогается, есть лучшее доказательство этой всеобъемлемости чувства» [7] (начало февраля 1831 года). Сохранить ее, глядя в лицо опасности, не бросаясь в иллюзии, не поступаясь трезвым чутьем реальности, — в этом усматривал Пушкин возможную точку опоры для современного человека.
Дерзкий выход навстречу опасности. Вызов, брошенный судьбе. Рискованное (на грани жизни и смерти) испытание судьбы. Мотив этот в разных вариантах проходит через все пушкинское творчество 30-х годов. Он запечатлен в гимне Председателя («Пир во время чумы»), в фаталистическом эксперименте Сильвио (эпизод второй дуэли в «Выстреле»), в отважном своеволии героев «Метели», в грозном жесте Евгения («Медный всадник»), в мифическом единоборстве Наполеона с чумой («Герой»), в самозабвенно-жутком вызове Дон-Гуана.
В этом поединке с неизбежным, в противостоянии силам судьбы пушкинские герои действуют на пределе душевных возможностей, хотя бы на миг предстают в ореоле величия и мощи. В изображении Пушкина эти мгновения как бы равновелики всей жизни человека, а порою «перевешивают» ее. Но это именно мгновения, после них следует либо надлом («Медный