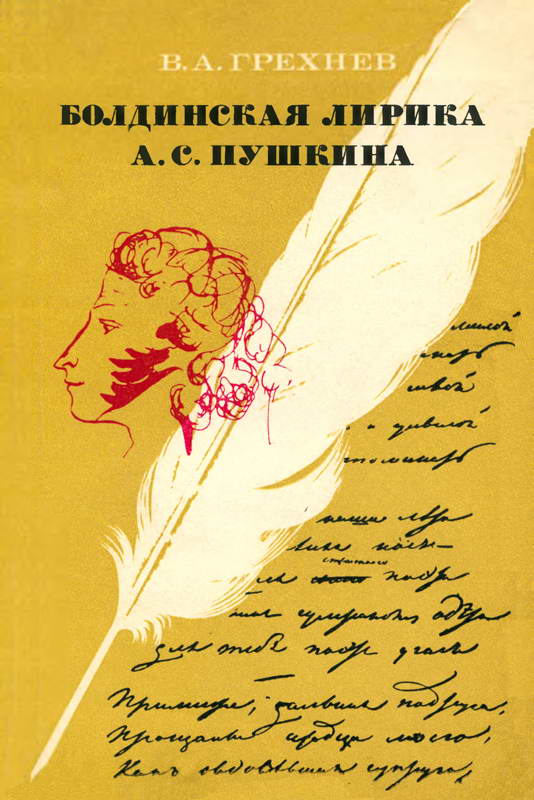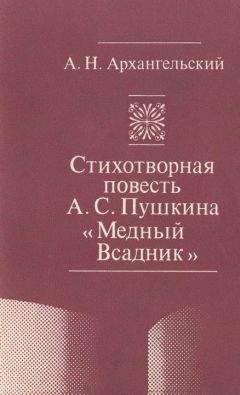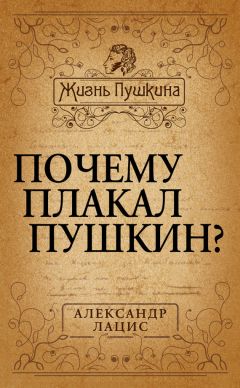отчетливей и все очевиднее раскрывается ее суть: отталкивание, неприятие, отвращение, усталость и скука, объемлющая все эти эмоции, скрадывающая их определенность и остроту. И вот, наконец, на вершине этого художественного построения, там, где замыкается его первое композиционное звено, является образ, сосредоточивший в себе итог всего предшествующего развития художественной мысли — «жизни мышья беготня…». Он нимало не выпадает из общей картины, напротив, рождается из нее. Он ассоциативно «подсказан» той цепью изобразительных деталей, которые вырастали на символическом переосмыслении бытовых реалий. Но он исчерпывающе раскрывает символику пушкинского быта в «Стихах…», а главное, пушкинская мысль поднимается здесь до максимального обобщения. К тому же он вносит в изображение ночного мира новый оттенок. Монотонный поток жизни теперь завихряется хаотически бессмысленным, лихорадочно суетливым движением. Это движение как бы пародия на жизненный порыв. Мертвенное по сути своей, оно лишь усиливает ощущение тоскливого однообразия бытия, призрачности людских целей, сопоставленных с вечностью.
Итак, произнесена метафора, являющая собой поэтическую формулировку жизненного закона и одновременно экспрессивный сгусток авторского отношения к миру. Пушкинский стих, как бы споткнувшись о некую внутреннюю преграду, делает паузу, выявленную графически (многоточие). И далее возникает строка, неожиданно открывающая новый поворот художественной мысли: «Что тревожишь ты меня?» С этого момента лирические вопросы следуют один за другим. Вопросительная интонация становится цементирующим началом в развертывании образа. Она несет в себе максимум смысла уже потому, что выявляет огромное лирическое напряжение, запечатленное в слове.
В пушкинских вопросах бьется пульс жадной, настойчиво взыскующей мысли:
Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скучный шепот? Укоризна, или ропот Мной утраченного дня? От меня чего ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, Смысла я В тебе ищу…
Мысль расплеснулась в этих вопросах неудержимо, именно как «стихия», сама природа которой исключает представление о пределе. Потому-то она и опрокидывает тот барьер завершающего знания о мире, к которому она только что пришла. В стихийности ее порыва заключено неясное, но глубокое предчувствие того, что жизнь может оказаться таинственней, богаче и шире любых универсалий, хотя бы они и были пропитаны эмоциональной правдой и искренностью личного трагического опыта. Не итог философско-лирического размышления здесь важен. Его нет. Или, точнее, он снят, опровергнут, отброшен стремительным напором мысли, для которой очевидное вновь оборачивается тайной. Важен акцент на стихийной динамике духа, на вечно неутоленной потребности познания, которую лишь подхлестывает прообраз «последней» трагической правды о мире. Пушкин, в «Стихах…», в сущности, допускает представление о пределе познания только для того, чтобы тотчас же против него взбунтоваться.
Трагический сумрак сгущается над пушкинской мыслью в «Стихах, сочиненных ночью во время бессонницы». Но в сумраке, по ходу развития поэтической темы, начинает брезжить свет. И свет этот излучает не спасительная контридея, способная противостоять представлению о жизни, как о бессмысленной «мышьей беготне», а сама лучезарная стихия пушкинской мысли, отважное кипение ума, не подавленного силою трагических впечатлений.
* * *
Поиск истины продолжается в пушкинском «Герое» (ноябрь 1830 года). Здесь резко перестраивается ракурс лирико-философской мысли. Теперь она втягивает в свою орбиту материал истории, одну из самых ярких, величественных и грозных ее страниц, связанную с судьбой Наполеона. Но не философия истории занимает Пушкина в «Герое» и не историческое содержание личности Наполеона служит здесь предметом размышления. Человеческая сущность этой личности, противоречия ее духовной природы — вот что выдвигается на первый план. Было бы нелепо усматривать в этом симптом равнодушия к истории. Важно только понять, что исторический материал в «Герое» существен лишь постольку, поскольку он сопричастен пушкинской мысли о современном человеке. Исторические вехи судьбы Наполеона, величавая панорама его взлетов и падений — все это входит в пушкинский стих. Однако входит не как самоценный объект изображения, пределами которого исчерпано движение авторской мысли, а скорее как фон, призванный оттенить главное: человеческое в гении, вечное в человеке, то, что не зависит от перепадов славы, от чередования удач и поражений. Вот почему библейский вопрос «Что есть истина?», вынесенный в эпиграф, для Пушкина не вопрос конкретно-исторического, локально-исторического порядка, но и не вопрос абстрактно-метафизический. Точка приложения его не перипетии наполеоновской судьбы, а сфера, непреходящих ценностей, насущно необходимых современному сознанию, в интересах которого и предприняты поиски ответа.
Первое, что приковывает к себе внимание в «Герое», — диалогическая форма композиции. Ее, разумеется, замечали исследователи, но не пытались принять за исходную опору анализа. Между тем форма эта в высшей степени небезразлична для того типа художественной идеи, которая воплощена в «Герое». Можно сказать больше: только в «открытой», полемически насыщенной структуре лирического диалога и могла быть воплощена пушкинская мысль, расщепленная, разорванная такими противоречиями, которые на сей раз требовали персонификации полемизирующих внутри авторского сознания «голосов» [26].
К развернутым диалогическим композициям в лирике 20-х годов не однажды прибегали романтики. Но то был, как правило, диалог с жестко закрепленной авторской точкой зрения на мир, диалог полемический скорее по форме, нежели по сути. Мера виденья автора здесь, как правило, совпадала с позицией какого-то одного из полемизирующих «персонажей». Таков диалог-элегия Д. Веневитинова «Поэт и друг» (1826–1827). Поэт и только Поэт в этом диалоге — лирический рупор автора, рупор его представлений о роли творца и судьбах творчества. В пламенной исповеди Поэта рассыпаны характерные для лирики Веневитинова пророчества близкой гибели («Душа сказала мне давно: Ты в мире молнией промчишься») и шеллингианские размышления о провиденциальном назначении искусства, об искусстве как форме непосредственно интуитивного проникновения в «тайнопись» природы:
Природа не для всех очей Покров свой тайный подымает: Мы все равно читаем в ней Но кто, читая, понимает? Лишь тот, кто с юношеских дней Был пламенным жрецом искусства, Кто жизни не щадил для чувства, Венец мученьями купил, Над суетой вознесся духом И сердца трепет жадным слухом, Как вещий голос,