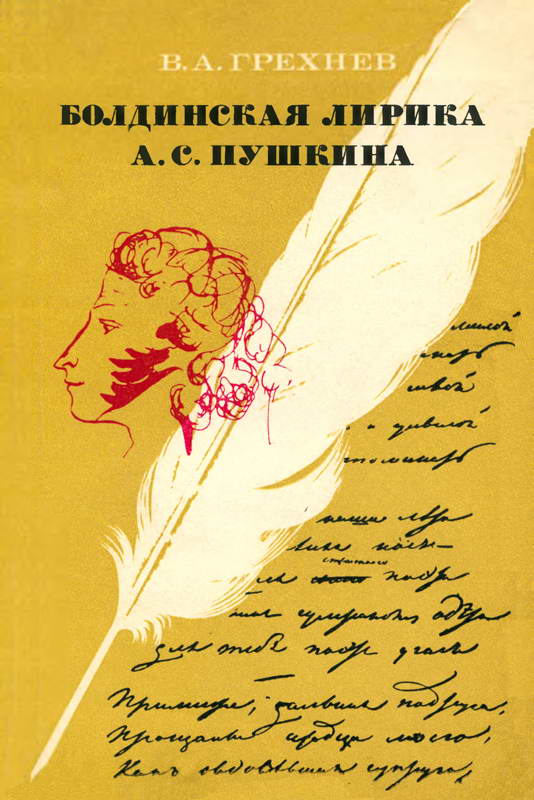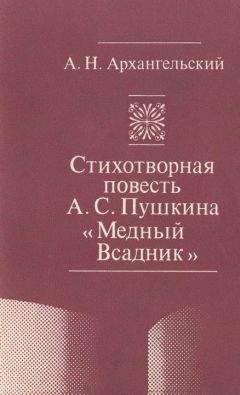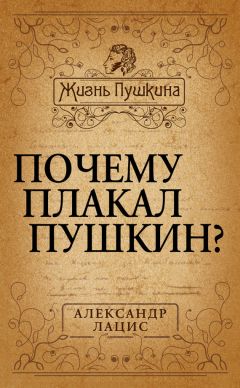авторского сознания, охвачена им, наделена правом его «полномочного представительства». Реплика завершается вопросом, острота которого усилена предпосланным ему рассуждением о капризах славы. Вопрос этот (исходный пункт пушкинского диалога) падает уже словно бы на подготовленную душевную почву, затрагивая в представлениях Поэта давнее и выношенное пристрастие: Поэт Все он, все он — пришлец сей бранный, Пред кем смирилися цари, Сей ратник вольностью венчанный, Исчезнувший, как тень зари.
Первый ответ и… первое противоречие. Но пока что это еще не «контроверза» остро столкнувшихся полярностей авторского мышления, а противоречие, заключенное в самой природе объекта — личности Наполеона. Наполеон — «пришлец», но пред ним «склонилися цари». А главное, он — «ратник, вольностью венчанный». Уже одно это сочетание взаимоисключающих атрибутов «вольности» и «венца» отмечено поразительной емкостью заключенного в нем исторически-объективного смысла. Пушкин варьирует здесь поэтическую характеристику, найденную им значительно раньше в стихотворении 1824 года «Недвижный страж дремал…»:
Сей всадник, перед кем склонилися цари; Мятежной вольности наследник и убийца, Сей хладный кровопийца, Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.
Вариация старого образа в «Герое», подхватывая узловое противоречие исторической миссии Наполеона («мятежной вольности наследник и убийца»), стремится к метафорическому сгущению мысли. Ее смысловые звенья, не расчлененные теперь столь явно, образуют прочное метафорическое стяжение. Именно поэтому пушкинская метафора порождает тонкую игру смыслов — верный признак содержательного полнозвучия и насыщенности метафорического образа. «Вольностью венчанный» — это выражение включает оба полюса старой поэтической «формулы» (Наполеон как «наследник» вольности и ее «убийца»). Но первое значение возникает на смысловой поверхности метафоры, второе рождается в ее образной глубине: «венчанный» — атрибут триумфатора (в Древнем Риме увенчивали победителя, героя), но «венчанный» — и знак самовластья. И вот это последнее значение в столкновении с понятием «вольности» порождает внутреннее противоречие, оксюморность образа, которая и ведет нас к реальным контрастам наполеоновской судьбы. Противоречия эти накаляют пушкинский лирический диалог. Поиск истины осложняется. Следующая реплика Друга, точно бы оттолкнувшись от слов Поэта, сгущает резко контрастные грани исторического пути Наполеона. Лишенная сколько-нибудь явных сигналов полемичности, реплика, однако, несет в себе тайный полемический умысел. Контрасты наполеоновской судьбы, нагнетаемые вопросами Друга, показывают, что сложность заключена отнюдь не в самом выборе (героя, любимца славы). Сложность начинается за порогом выбора. И она состоит в том, чтобы отделить истинное в герое от ложного, вечное от преходящего.
Именно с этого момента ориентиром диалога и становится вопрос, вынесенный в эпиграф: «Что есть истина?» Вопросы Друга построены как цепь альтернатив. Но их скрытый полемический умысел в том и состоит, что, в сущности, они исключают выбор какой-либо отдельной альтернативы, ибо они демонстрируют сложность и противоречивость единого целого. Это целое — исторически неделимые в своих контрастах судьба и личность Наполеона. За подобным поворотом диалогической темы (напомним еще раз) — динамика пушкинского мышления, особенно настойчиво отвергающего в болдинский период «одноцветное», однозначное, иллюзорное восприятие мира и идущего к истине трудным путем, через противоречия и борьбу.
Вопросы Друга — не только побуждение к полемике, вызов на исповедь, обращенный к поэту. Дело еще и в том, что, вопрошая, они утверждают. Только это утверждение не логического, а поэтического порядка. Утверждается исторический ракурс в осмыслении наполеоновской судьбы, ее драматических перепадов. Создается образ этой судьбы, целенаправленно сгущающий ее контрасты. Наполеон — герой, но и тиран, и это грани одной личности:
Когда ж твой ум он поражает Своею чудною звездой? Тогда ль, как с Альпов он взирает На дно Италии святой; Тогда ли, как хватает знамя Иль жезл диктаторский…
Наполеон владыка судьбы и одновременно баловень удачи. Он управляет течением событий:
…тогда ль, Как водит и кругом и вдаль Войны стремительное пламя…
Но и река истории стремительно подхватывает его:
И пролетает ряд побед Над ним одна другой вослед…
Наполеон — дерзновение воли и гения, бросающих вызов вечности.
Тогда ль, как рать героя плещет Перед громадой пирамид…
Но он только человек и его личная воля и разум имеют предел. Знамение этого предела — Москва, образ которой исполнен у Пушкина загадочной, затаившейся мощи:
Иль как Москва пустынно блещет, Его приемля, — и молчит?
Следующая далее реплика Поэта начинается резким отрицанием
Нет, не у счастия на лоне Его я вижу, не в бою, Не зятем кесаря на троне…
решительно отвергающим цепь альтернатив, выдвинутых вопросами Друга. В композиции диалога происходит перелом. Репликою Поэта снято историческое содержание личности и судьбы Наполеона. Отрицанием охвачен даже последний, самый романтический и притягательный для Пушкина эпизод наполеоновской биографии. Наполеон — изгнанник, отвергнутый историей, томящийся в бездействии — эта последняя глава великой наполеоновской эпопеи давно владела воображением поэта. В стихотворении «К морю» именно финал наполеоновской истории исполнен в глазах поэта особого трагического величия:
Одна скала, гробница славы, Там погружались в хладный сон Воспоминанья величавы, Там угасал Наполеон,