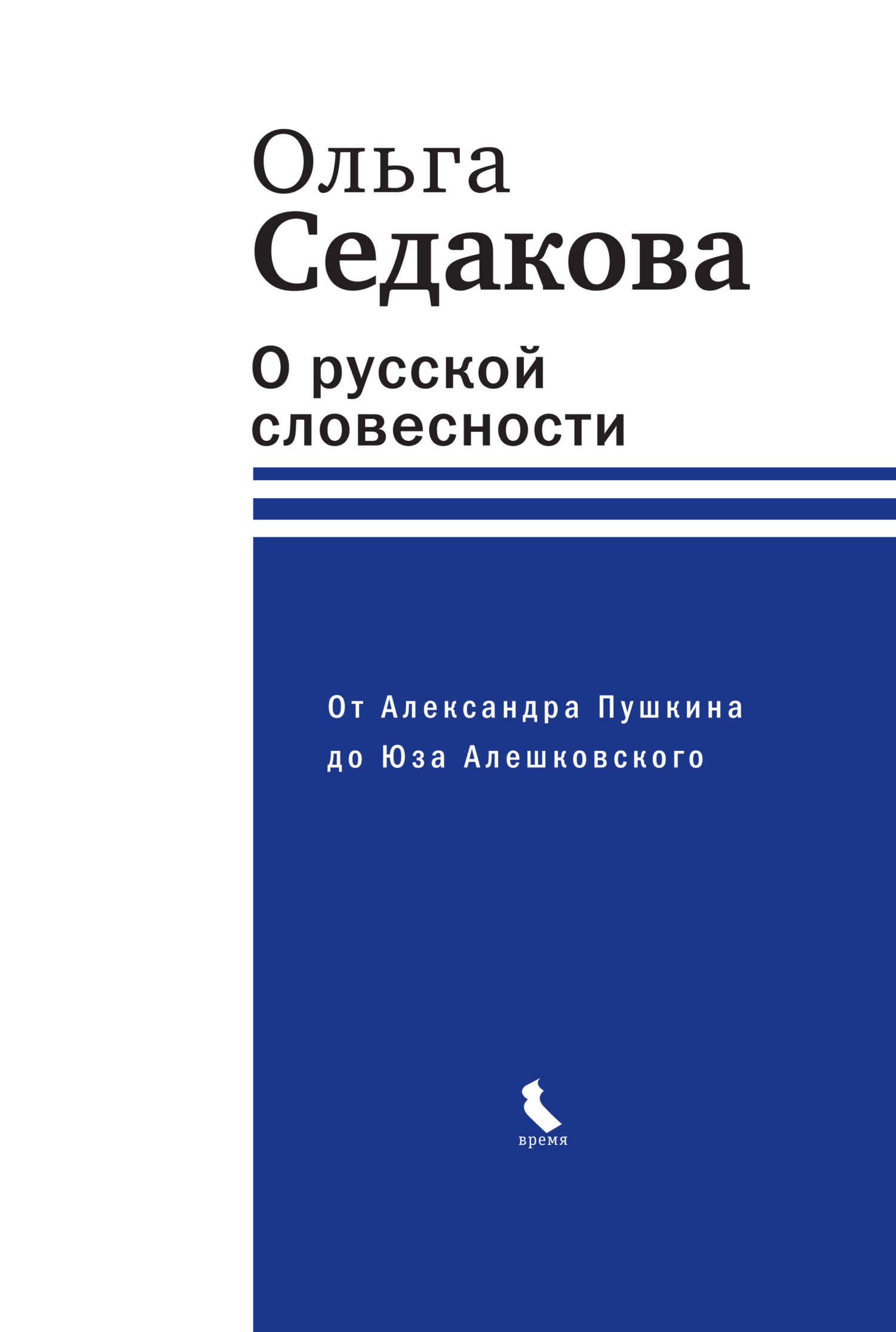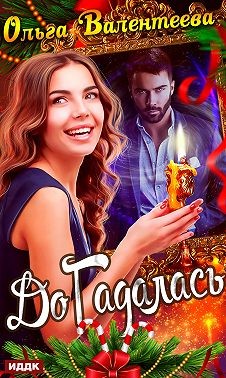привел, чтобы потешить Сальери.
Подвижник и страдалец Сальери о чем другом, но о пользе-то не забывает; это его аргумент:
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет.
Здесь нерв всей его жизни: польза, целесообразность. Все делается для чего-то. Сальери свирепо постигает ремесло, чтобы перейти к искусству; он лишает себя удовольствий и развлечений, чтобы создать замечательную вещь; он 18 лет не применяет яда, чтобы употребить его самым лучшим образом. Это мелкое чтобы лишает его и того своеобразного величия, той поэзии, которой озаряется бесцельная скупость Скупого рыцаря. В замысле Скупца – некое великое упокоение, которое он готовит своим накопленным сокровищам:
Усните здесь сном силы и покоя,
Как боги спят в глубоких небесах…
Сальери рядом с Бароном, которому он во многом близок [76], суетлив: и это эстетический суд над ним. Целеполагание у Пушкина не может быть прекрасным. Его сопротивление цели [77] сопоставимо с тем сопротивлением, которое искусство XX века направило против механической причинности, против детерминизма. Но это другой, философский разговор. Оставаясь с Моцартом: пушкинский благодушный гений, беспечный, но не необязательный – утопия, если угодно; однако нельзя ли допустить, что это и есть правда о гении, правда, не замеченная до наших дней?
Расхожее толкование антитезы Моцарт-Сальери как труда и дара, аналитизма (его обычно и называют «сальерианством») и интуиции, ремесленничества и наивного озарения ни на чем в тексте, кроме инсинуаций Сальери, не основано. О своем труде (два новых сочинения со времени последней встречи с Сальери!), о своем владении ремеслом и анализом («алгеброй гармонию»), без которого занятие композицией невозможно, Моцарт просто молчит.
В собственно драматическом отношении это антитеза нормально, даже рутинно театрального Сальери – и совершенно не-театрального Моцарта. Под театральным я имею в виду то, что возможно только на подмостках: герой, говорящий о себе никому, a parte; его монолог – исповедь перед анонимной публикой, «раскрытие» обыкновенно не артикулируемого мира. Все высказывания Моцарта обращены, «как в жизни», к конкретному собеседнику: к Сальери. Ему он сообщает программу нового сочинения, ему рассказывает о черном человеке, ему напоминает, как общеизвестную вещь, закон несовместимости гения и злодейства. Появление Моцарта на сцене и уходы его настолько нетеатральны, что кажется, будто он ненароком и не заметив того попал в театр Сальери. Эта вопиющая нетеатральность Моцарта в театральном пространстве больше, чем что-либо, создает образ его чуждости миру, «месту действия». Он явно не понимает, куда попал, куда он пришел со своей «безделицей».
Самое интересное и плодотворное, что можно было бы сделать с этим театральным опытом Пушкина, это просто внимательно следовать за движением его слов, реплик, отзвуков, ничего по возможности не пропуская. В таком случае мы встретимся с чудесами тонкого и сильного построения [78]. Мы присоединимся к любимому удовольствию Пушкина – «следовать за мыслями великих людей». Но такая работа возможна скорее в обстановке университетского семинара.
* * *
Мне хочется подойти к коллизии «Моцарта и Сальери» издалека, начав с того, что я назвала «случаем Оболенского»: с забавного эпизода, который встретился мне в мемуарных записках М. П. Погодина. Дело происходит в 1828 году (время, когда Пушкин обдумывает Сальери) на большом литературном обеде в Москве. «Оболенскій, адьюнктъ греческой словесности, добрѣйшее существо, какое только можетъ быть, подпивъ за столомъ, подскочилъ послѣ обѣда къ Пушкину, и взъерошивая свой хохоликъ, любимая его привычка, воскликнулъ: Александръ Сергѣевичъ, Александръ Сергѣевичъ, я единица, единица, а посмотрю на васъ, и покажусь себѣ милліономъ. Вотъ вы кто! – Всѣ захохотали и закричали: милліонъ, милліонъ!»
Три эти цифры: единица, миллион, нуль – пушкинская тема. В этих символах Пушкин обсуждает болезненную тему времени: гений (избранник) и толпа, человек и человечество. На языке этих трех чисел Пушкин излагает критику расхожего байронизма:
Мы почитаем всех нулями,
А единицами – себя;
Мы все глядим в Наполеоны:
Двуногих тварей миллионы;
Для нас орудие одно…
Миллионы нулей и одна единица. При этом с точки зрения каждого из таких «нулей» («мы все глядим в Наполеоны») каждая такая «единица» – ноль.
Нуль, пустой человек – довольно распространенное светское мнение о самом Пушкине:
Хоть, впрочем, он поэт изрядный,
Эмилий человек пустой,
на которое он возражал, но не слишком находчиво: дескать, и сам такой:
Да ты чем полон, шут нарядный?
А, понимаю: сам собой;
Ты полон дряни, милый мой!
И о себе говорил:
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум…
Графически изображенная внутренняя пустота дает картинку нуля [79]. Заметим, что пустым, нулевым, «праздным» (более архаическое именование того же свойства) выглядит и Моцарт, как в глазах Сальери (для Сальери это несомненно отрицательное качество):
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений ‹…›
Озаряет голову безумца,
Гуляки праздного? —
так и в собственных:
Нас мало, избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой…
Вот уж кто не пуст, так это Сальери. Но об этом позже.
Итак, вдохновенный художник пуст [80], он – ноль, он на единицу «меньше единицы», той единицы, которой каждый «современный человек» «почитает себя».
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Однако добрейший Оболенский в подпитии произвел такую головокружительную арифметическую операцию с единицей и нулями, о какой сам Пушкин, видимо, и не думал. Гений, избранник, человек дара («вот вы кто!») оказался у него не единственной единицей среди миллиона нулей, но наоборот: нулем среди единиц: даже шестью нулями (бездна пустоты!) – которые, однако, в миллион раз увеличивают ценность единицы, если только она написана рядом с ним, слева от него (если она «посмотрит на него»). Не «миллионы тварей» – нулей, а единственная «тварь-миллион»!
Странное и многозначное до комичности, в порыве восторга найденное «я миллион!» – точнейшее, на мой взгляд, выражение того наслаждения – или же безбольного, безотчетного труда – которым наделяет человека искусство, или, говоря иначе, реализованный, явленный дар другого. Он, зритель, слушатель, современник, не то чтобы освобождается от себя, забывает себя: он необозримо умножается. Миллион, вообще говоря, – бесконечность. «Я», которое «миллион», – это не то «я», от которого нужно бежать