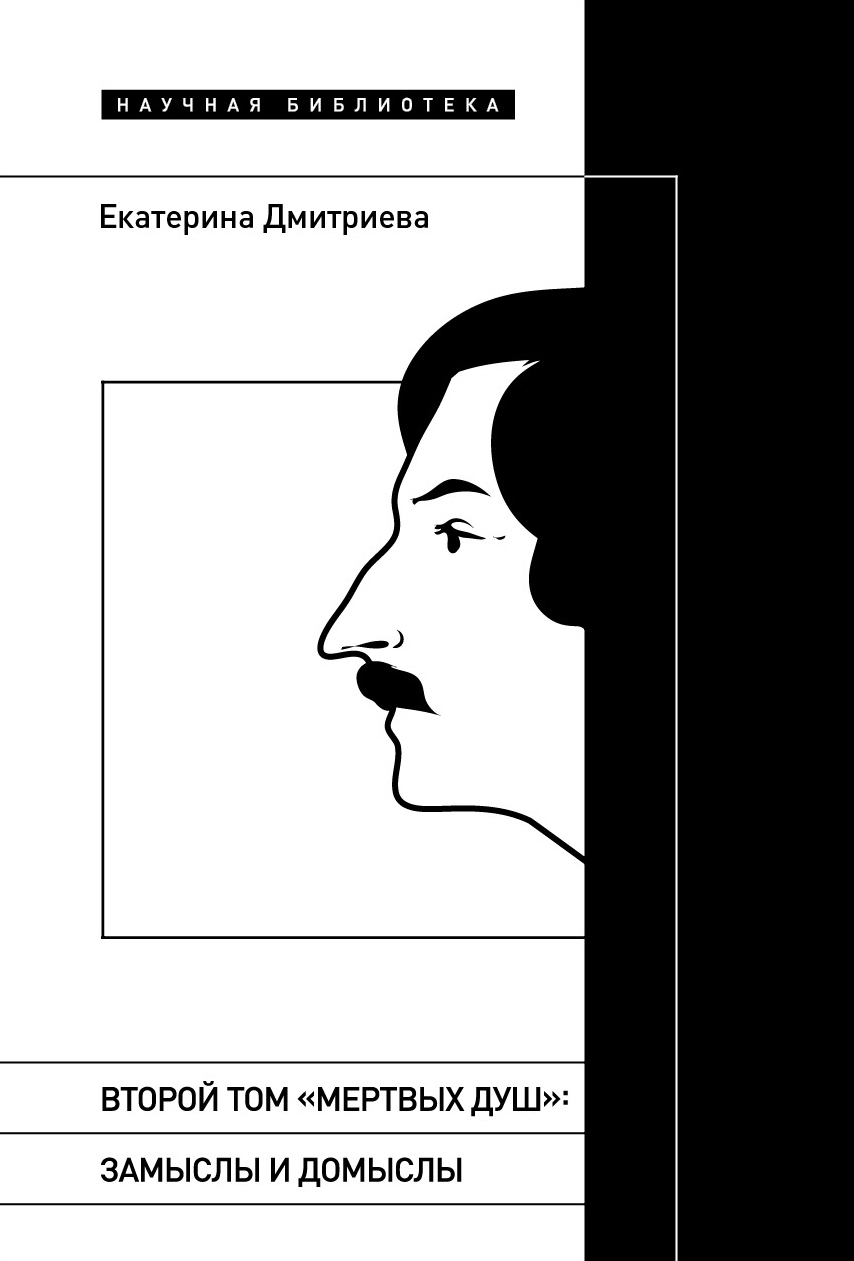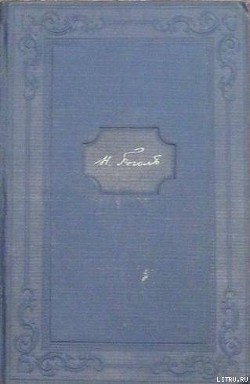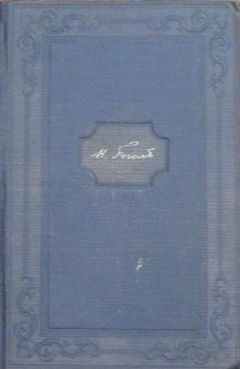не пропустить и минуты времени, не отхожу от стола, не от<о>двигаю бумаги, не выпускаю пера – но строки лепятся вяло, а время летит невозвратно. Или, в самом деле, 42 года есть для меня старость, или так следует, чтобы мои «Мертвые души» не выходили в это мутное время, когда, не успевши отрезвиться, общество еще находится в чаду и люди еще не пришли в состояние читать книгу как следует, то есть прилично, не держа ее вверх ногами? Здесь всё, и молодежь и стар<ость>, до того запуталось в понятиях, что не может само себе дать отчета. Одни в полном невежестве дожевывают европейские уже выплюнутые жеваки. Другие изблевывают свое собственное несваренье. Редкие, очень, очень редкие слышат и ценят то, что в самом деле составляет нашу силу. Можно сказать, что только одна церковь и есть среди нас еще здоровое тело (письмо от 14 декабря 1849 года, Москва).
На следующий день почти о том же он пишет и П. А. Плетневу:
…нашло на меня неписательное расположение. Все кругом меня жалуются, что не пишу. <…> «Мертвые души» тоже тянутся лениво. Может быть, так оно и следует, чтобы им не выходить теперь. Люди, доселе не отрезвившиеся от угару, не годятся в читатели… (письмо от 15 декабря 1849 г., Москва).
И остается только гадать: переживал ли Гоголь в это время новый кризис, или то было настроение момента. Во всяком случае, на исходе 1849 года он делает А. М. Виельгорской признание несколько иного характера:
Труда своего никак не оставляю, и хоть не всегда бывают свежие минуты, но не унываю (письмо от 26 декабря 1849 года).
***
Начало 1850 года было ознаменовано новой чредой чтений глав второго тома, которые Гоголь устраивал своим друзьям и литературным знакомым. 7 января 1850 года он вторично прочел Аксаковым первую главу – теперь уже в переработанном виде. Об этом имеется свидетельство Ивана Аксакова, который гостил в Москве и на этот раз смог сам присутствовать на чтении, а уже 9 января, вернувшись в Ярославль, писал родным:
Как-то Вы провели ночь эту, милый отесинька, после чтения Гоголя и моего отъезда, что Ваша голова? <…> Спасибо Гоголю! Все читанное им выступало передо мною отдельными частями, во всей своей могучей красоте… Если б я имел больше претензий, я бы бросил писать: до такой степени превосходства дошел он, что все другие перед ним пигмеи [152].
Об этом же чтении вспоминал впоследствии и С. Т. Аксаков:
1850 года генваря 7‐го Гоголь прочел нам в другой раз первую главу «Мертвых душ». Мы были поражены удивлением: глава показалась нам еще лучше и как будто написанною вновь [153].
А Ивану Аксакову «по горячим следам» в письме от 10 января 1850 года из Москвы он сообщил о разговоре, состоявшемся с Гоголем через день после прочтения новой редакции первой главы:
Вчера целый вечер провели мы с Гоголем, даже Констант<ина> не было дома (он был у Кошелева, с Соллогуб и Васильчиковой). Гоголь был необыкновенно любезен, прост и искренен; при сестрах говорил о том, как он трудно пишет, как много переменяет, так что иногда из целой главы не остается ни одного прежнего слова. Когда все вышли в другую комнату, он наклонился ко мне и спросил: «Ну, а заметили вы, как я все переправил по вашему письму? Теперь вы должны сделать мне свои замечания на второе чтение». Я сказал, что решительно не могу ничего заметить, и в то же время спросил его, что это значит, что при втором чтении я слышал все как будто новое, так что я забыл теперь прежнее? Он объяснил мне это тем, 1) что при втором чтении выступила наружу глубина содержания и, второе, что он дал последнюю гармоническую отделку. Он прибавил, что трудно это объяснить и что только живописец понимает, что такое значит тронуть в последний раз картину, что после этого ее не узнаешь. Он потребовал вторично, чтоб я ему что-нибудь заметил. Я напряг свою память и точно вспомнил, что в описании девушки мне показалось слишком обыкновенным, даже избитым то, что, когда надобно дать что-нибудь – она отдает все, что у нее есть, и потом выражение, что, казалось, она готова была сама улететь вслед за своими словами, мне не нравится своей идеальностью. На оба замечания Гоголь сказал: точно так, – весьма проворно и таким тоном, что, вероятно, он и прежде это думал. Я заставил его признаться, что все наши замечания бесполезны и что он сам это видит лучше других, но в то же время он сказал, что для него важно совпадение моих замечаний с его собственными, и прибавил, что при третьем чтении я, может быть, больше замечу. Я решился ему сказать мое опасение, что при его ясновидящем взгляде, так глубоко и широко все обнимающем, он при каждом новом воззрении увидит что-нибудь новое, если не в главном, не в существенном, то в подробностях, в полноте… Гоголь улыбнулся и сказал: успокойтесь; этому есть мера; художник почувствует гармонию своего создания и ни за что в свете ничего не переменит, кроме каких-нибудь ошибочных слов или сведений [154].
Письмо, упомянутое Гоголем («переправил по вашему письму»), было тем самым, которое С. Т. Аксаков отослал ему на следующий день после чтения первой главы в Абрамцеве [155].
Со своей стороны, Иван Аксаков в письме к отцу от 12 января 1850 года из Ярославля отметил, что «не довольно ясно обозначено, почему, под каким предлогом Чичиков расположился жить у Тентетникова…» [156]. В остальном он, как и в предыдущем письме родным от 9 января 1850 года, высказывал восхищение прочитанным:
Я теперь точно стал в отдалении и смотрю на картину, развернувшуюся в «Мертвых душах», и лучше еще понимаю и чувствую ее, нежели стоявши слишком близко к ней. Так все глубоко, могуче и огромно, что дух захватывает! <…> Кланяюсь Гоголю [157].
Мнение это было передано Гоголю, который «ни слова не сказал на <…> замечание о Чич<икове> и Тентетн<икове>, но, конечно, без внимания его не оставит», как заметил С. Т. Аксаков в письме И. С. Аксакову от 17 января 1850 года [158].
19 января 1850 года Гоголь прочитал «Мертвые души» М. П. Погодину и М. А. Максимовичу [159], затем отправился обедать к Аксаковым и прочитал С. Т. и К.