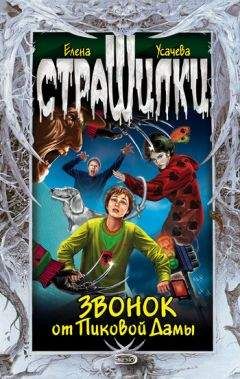намека — британские суда могут проделать это расстояние меньше, чем за двое суток.
Император справился, включив в общий список еще и восстание в Польше 1830–1831 годов.
И соседи присмирели.
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон.
К Николаю же относятся слова: «Старичок хотел заспорить, / Но с иным накладно вздорить», описывающие собственную ссору поэта с императором. «На днях я чуть было беды не сделал: с тем чуть было не побранился. И трухнул-то я, да и грустно стало. С этим поссорюсь — другого не наживу. А долго на него сердиться не умею, хоть и он не прав» [150].
«Не боится, знать, греха»
И все же главная фигура — прежний, уже покойный Александр I, допустивший стеречь Россию революционных петушков. Последних Пушкин имел возможность наблюдать на юге: и в Кишиневе, и в Каменке, и в Одессе. Они были побеждены при очередном «бунте в столице», но благодаря неусыпным попечениям — «Ты молоток возьмешь во длань» — дали поросль, изображенную на картинке.
Шемаха (Шамаха) — область Закавказья, куда ссылали скопцов [151]. Интерес императора к этой секте возник не случайно. Александр I противопоставлял вышедшее из народных недр течение мысли, заимствованному с Запада, в котором и сам по юности «был грешен». Патриарх мистической Европы Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг, приятель Иоганна Вольфганга Гёте, корреспондент Иммануила Канта, встречавшийся с царем после победы над Наполеоном, написал книгу «Серый человек». Она была переведена в России в 1819 году под названием «Угроз Световостоков» [152]. Имелась в виду угроза послевоенному миру, Священному союзу, идущая от «Света с Востока», от лож, именующих себя «Великими Востоками» того или иного государства. Например, «Великий Восток Франции».
Девица, пробравшаяся, благодаря Дадону, в его столицу, представляла собой «Зарю Великого Востока». Смерть Дадона заставляет ее исчезнуть: «А царица вдруг пропала, / Будто вовсе не бывало». Так мигом спрятались после неудачного восстания на Сенатской площади многочисленные сочувствующие, салонные витии и журнальные громовержцы. Они вновь появятся в момент Польского восстания, как по мановению волшебной палочки, словно им приказали опять заговорить: «Не из любви к Польше, а из любви к конституции» [153].
Через Шамаханскую царицу Пушкин характеризует этих людей: «Хи-хи-хи да ха-ха-ха! / Не боится, знать, греха». Греха не в политическом, а в самом прямом смысле — связи с «богами грозными Аида».
Обычно не задумываются о том, что пара царь и мудрец объединяет две крайности в целое. Андрогинность и скопчество на мифологическом уровне одно и то же [154]. Само имя Дадон созвучно знаменитому Додонскому оракулу в Древней Греции — святилищу в городе Додоне, где поклонялись одновременно Зевсу (таковым изображен покойный царь у Кипренского, где он в венке выглядывает из-за тучи) и женскому божеству земли Дионе. В таком имени для героя заключены его заведомая двуликость и отсылка к единству внука и бабушки — Александра I и Екатерины II.
Наделенный признаками обоих полов, Александр I по причине избыточности лишен мужской силы. Не способен ни утешить жену — Елизавету Алексеевну, в которую был влюблен молодой поэт, — ни загасить бунт.
Скопчество Александра I подчеркнуто Пушкиным в первоапрельских шуточных стихах 1825 года:
Говорил он с горем
Фрейлинам дворца:
«Вешают за морем
За два за яйца!
То есть разумею, —
Вдруг примолвил он, —
Вешают за шею,
Но жесток закон».
Где это — «за морем»? Сразу вспоминается «Сказка о царе Салтане…» — «За морем житье не худо». Не худо, потому что есть закон и за отцеубийство на «тех островах, где растет трын-трава», могут повесить.
Начало шуточных стихов обращает к образам, которые станут волновать поэта через несколько лет:
Брови царь нахмуря,
Говорил: «Вчера
Повалила буря
Памятник Петра».
Тот перепугался.
«Я не знал!.. Ужель?»
Царь расхохотался.
«Первый, брат, апрель!»
«Тот» — так Пушкин будет именовать императора Николая I в письмах. Например: «На того я перестал сердиться, потому что… не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к дерьму… даром что gentlman» [155]. Перед нами практически все воплощения Петра. Медный всадник, которого может повалить скорая буря — не
взбунтовавшаяся Нева, а восстание. Александр I, сетующий на жестокие законы, способные оскопить его — в политическом и эротическом смысле. Наконец, великий князь Николай, который пока недооценивает серьезности ситуации: «Я не знал!.. Ужель?» Именно такова будет реакция Николая на известие об отречении второго из братьев Константина Павловича, жившего в Варшаве, и на манифест покойного императора, провозглашавший его наследником. «Ужель?»
Игра Александра I с братьями-царевичами — еще одно проявление двоедушия. Оно не раз будет поставлено поэтом в вину царю: «К противочувствиям привычен, / В лице и в жизни Арлекин». Слово «Арлекин» дано с заглавной буквы как имя собственное. Пушкин поставил знак равенства между императором и цирковым паяцем. Именно в бродячих шапито показывали бородатых женщин. Еще в «Бове» бороды будут поставлены в упрек Дадону: «Раз собрав бородачей совет / (Безбородых не любил Дадон)» — Пушкин поместил насмешливую отсылку на слова Александра I, переданные Наполеону по поводу мира.
Царь не проявил мужской силы, когда «дремал», а страна тем временем покрывалась «сетью тайной». Не обнаружили ее и заговорщики, попытавшиеся было отнять власть — деву. Их натиск был отражен, как натиск графа Нулина на спящую Наталью Павловну — «бывают странные сближенья». Зато мужчиной себя показал новый император — «суровый и могучий», «Герой».
В стихотворении 1828 года «Друзьям» сказано: «Он бодро, честно правит нами». Честность нового государя — притча во языцех. Бодрость тоже. Возвращаемся к тарелке: «Я бодрствую за…» Чтобы стеречь «град-столицу» от напастей Великого Востока, нужно было, говоря фигурально, «посадить на спицу» мужскую силу, честность и бодрость нового государя. Именно ему предстояло в мистическом плане расколдовать Старуху, пока «ведьма» сама не убила героя [156]. Но для этого ею следовало овладеть, и не при помощи пистолета, который «не заряжен».
Глава пятая. «Усатая фея»
В дневнике Пушкин как будто сам назвал Голицыну прототипом своей героини. «Моя „Пиковая дама“ в большой моде, — отметил поэт 7 апреля 1834 года. — …При дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся…» [157] В тексте сказано лишь, что «при дворе нашли», но вовсе нет категоричного утверждения. Мало ли что думают высочайшие особы, о которых со времен Екатерины II в письмах принято было говорить безлично, заменяя словом