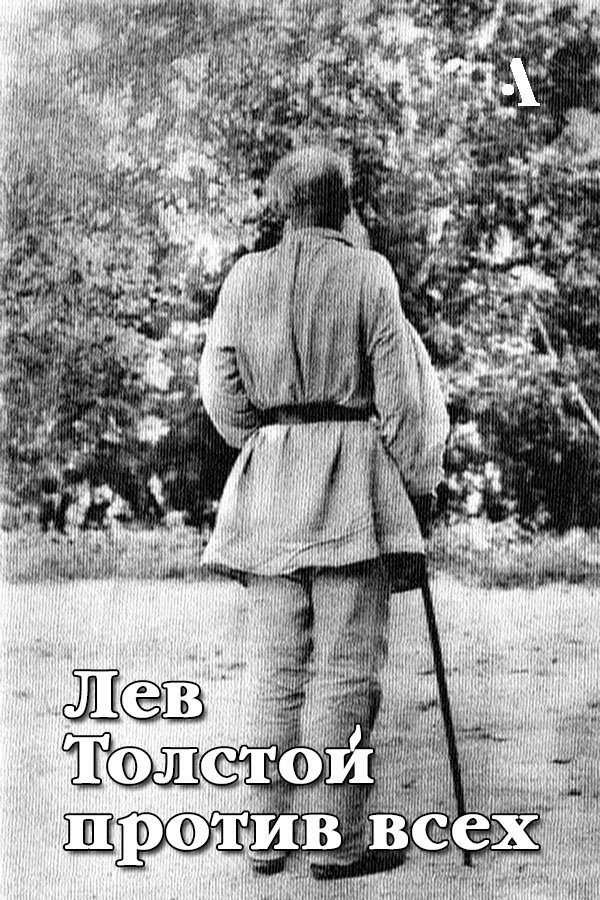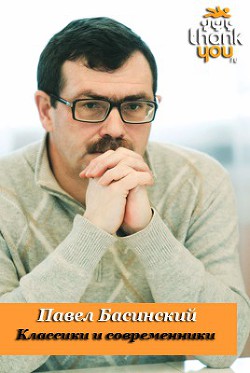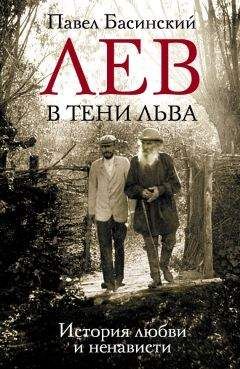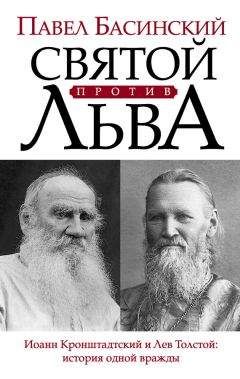нее, как в первый раз. Такое открытие теперь только лишило бы ее семейных привычек, и она позволяла себя обманывать, презирая его и больше всего себя за эту слабость.
Самая жалкая и невыносимая сцена с участием Долли не та, где она впервые узнает о предательстве Стивы и страдает от обиды и ревности. Здесь она, по крайней мере, знает о своем нравственном преимуществе перед Стивой, как верная жена и заботливая мать. Но когда она едет к Анне и не решается посмотреть на себя в зеркальце, она сама начинает мечтать об измене мужу. Долли пытается примерить роль Карениной на себя:
[о]: Но и не глядясь в зеркало, она думала, что и теперь еще не поздно, и она вспомнила Сергея Ивановича, который был особенно любезен к ней, приятеля Стивы, доброго Туровцына, который вместе с ней ухаживал за ее детьми во время скарлатины и был влюблен в нее. И еще был один совсем молодой человек, который, как ей шутя сказал муж, находил, что она красивее всех сестер. И самые страстные и невозможные романы представлялись Дарье Александровне. «Анна прекрасно поступила, и уж я никак не стану упрекать ее. Она счастлива, делает счастье другого человека и не забита, как я, а, верно, так же, как всегда, свежа, умна, открыта ко всему», – думала Дарья Александровна, и плутовская улыбка морщила ее губы, в особенности потому, что, думая о романе Анны, параллельно с ним Дарья Александровна воображала себе свой почти такой же роман с воображаемым собирательным мужчиной, который был влюблен в нее. Она, так же как Анна, признавалась во всем мужу. И удивление и замешательство Степана Аркадьича при этом известии заставляло ее улыбаться.
В Воздвиженском Долли, уже рожавшая девять раз, услышит от Анны поразительную для себя новость. Оказывается, от беременности можно предохраняться. И для этого есть специальные средства.
[о]: – Не может быть! – широко открыв глаза, сказала Долли. Для нее это было одно из тех открытий, следствия и выводы которых так огромны, что в первую минуту только чувствуется, что сообразить всего нельзя, но что об этом много и много придется думать.
Открытие это, вдруг объяснившее для нее все те непонятные для нее прежде семьи, в которых было только по одному и по два ребенка, вызвало в ней столько мыслей, соображений и противоречивых чувств, что она ничего не умела сказать и только широко раскрытыми глазами удивленно смотрела на Анну.
Анна убеждена, что рожать детей больше не нужно, хотя этого хочет Вронский. Она и второго-то своего ребенка, девочку, рожденную от любимого человека, не любит и не заботится о ней, бросив на попечение итальянской няни. Она даже не знает, что у девочки прорезался новый зуб. Это отношение к ребенку удивляет Долли. Но к аргументам Анны она прислушивается…
[о]: Подумай, у меня выбор из двух: или быть беременною, то есть больною, или быть другом, товарищем своего мужа…
Совсем недавно, по пути в Воздвиженское, такие же мысли посещали Долли:
[о]: «И все это зачем? Что ж будет из всего этого? То, что я, не имея ни минуты покоя, то беременная, то кормящая, вечно сердитая, ворчливая, сама измученная и других мучающая, противная мужу, проживу свою жизнь… Загублена вся жизнь!»
Анна продолжает убеждать Долли:
[о]: Зачем же мне дан разум, если я не употреблю его на то, чтобы не производить на свет несчастных?
Эти мысли тоже приходили в голову Долли, когда она ехала к Анне в Воздвиженское. И приходили они к ней потому, что она ехала именно к Анне…
[о]: «Да и вообще, – думала Дарья Александровна, оглянувшись на всю свою жизнь за эти пятнадцать (все-таки 15? – П.Б.) лет замужества, – беременность, тошнота, тупость ума, равнодушие ко всему и, главное, безобразие. Кити, молоденькая, хорошенькая Кити, и та так подурнела, а я беременная делаюсь безобразна, я знаю. Роды, страдания, безобразные страдания, эта последняя минута… потом кормление, эти бессонные ночи, эти боли страшные».
В споре с Анной Долли ничего не может ей возразить, хотя чувствует, что в словах Анны есть какая-то неправда. Анна на ее фоне выглядит здоровой и цветущей, и это неотразимый аргумент в ее пользу.
[о]: Она вышла на середину комнаты и остановилась пред Долли, сжимая руками грудь. В белом пеньюаре фигура ее казалась особенно велика и широка. Она нагнула голову и исподлобья смотрела сияющими мокрыми глазами на маленькую, худенькую и жалкую в своей штопаной кофточке и ночном чепчике, всю дрожавшую от волнения Долли.
Но победить Долли Анна все-таки не смогла. Долли знает, какое самое уязвимое место в рассуждениях Анны. Если речь идет только о теле, то она не сможет удержать при себе Вронского, как Долли не смогла удержать Стиву от измен.
[о]: С необыкновенною быстротой, как это бывает в минуты волнения, мысли и воспоминания толпились в голове Дарьи Александровны. «Я, – думала она, – не привлекала к себе Стиву; он ушел от меня к другим, и та первая, для которой он изменил мне, не удержала его тем, что она была всегда красива и весела. Он бросил ту и взял другую. И неужели Анна этим привлечет и удержит графа Вронского? Если он будет искать этого, то найдет туалеты и манеры еще более привлекательные и веселые. И как ни белы, как ни прекрасны ее обнаженные руки, как ни красив весь ее полный стан, ее разгоряченное лицо из-за этих черных волос, он найдет еще лучше, как ищет и находит мой отвратительный, жалкий и милый муж».
Так впервые жалкой оказывается не Долли, а Стива. Стива ошибается, считая свою жену глупой и недалекой женщиной. Долли – единственный персонаж в романе, кто предчувствует трагедию Анны. В этом смысле очень важен ее диалог с Карениным, когда он приезжает в Москву и встречается с адвокатом, чтобы устроить развод. Эта сцена – одна из самых главных в романе. Женщина и мужчина. Два униженных и оскорбленных человека. Ей изменяет муж. Ему изменила жена. Каждый ищет свой выход из этого положения.
[о]: – Я понимаю, я очень понимаю это, – сказала Долли и опустила голову. Она помолчала, думая о себе, о своем семейном горе, и вдруг энергическим жестом подняла голову и умоляющим жестом сложила руки. – Но постойте! Вы христианин. Подумайте о ней! Что