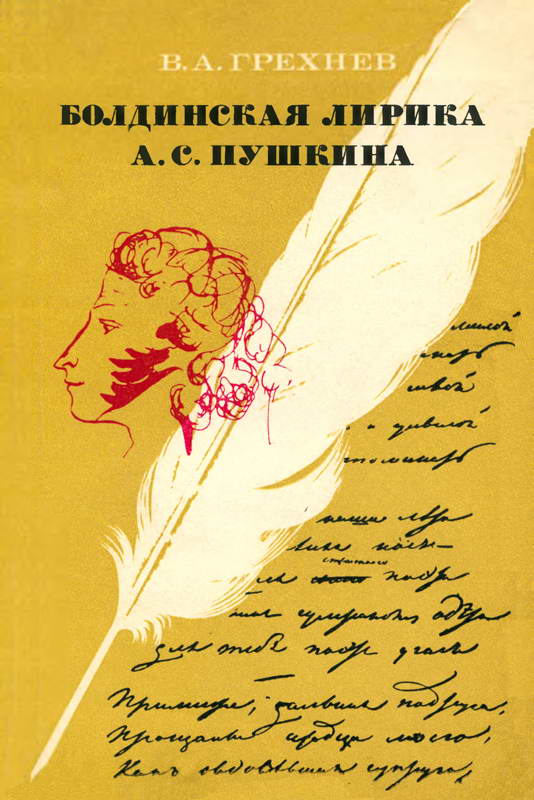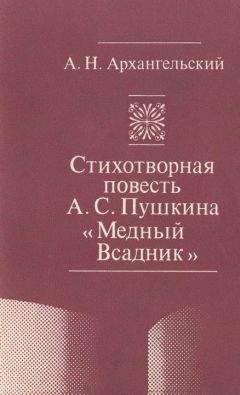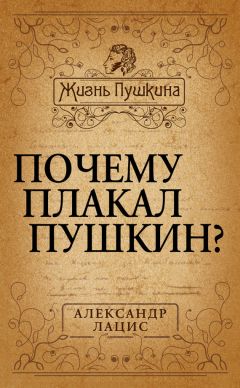роде в русской поэзии вообще. В 1836 году Пушкин напишет еще две антологических пьесы, навеянные скульптурными сюжетами: «На статую играющего в свайку» и «На статую играющего в бабки». Они прекрасны: отточенное совершенство формы, сдержанная динамичность образа, пластическая рельефность каждой детали. Но философской объемности изображения, многоаспектности художественного виденья, которыми отмечена «Царскосельская статуя», в них нет. «Царскосельская статуя» — произведение об античности и о «вечной струе» бытия, о мудрой печали человеческой, склонившейся над потоком жизни, и о могучей силе искусства, способной удерживать и заковывать в вечно живые формы творчества быстротечный миг. И вся эта «бездна пространства» сосредоточена в четырех строках пушкинского текста:Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. Дева печально сидит, праздный держа черепок. Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
Стихотворение было написано под впечатлением от знаменитой скульптуры Соколова. Она уже сама по себе принадлежит такому уровню совершенства, с которым трудно соперничать. И гениальность пушкинской миниатюры тем поразительней, что ее поэтический образ, на первый взгляд, верный словесный «слепок» царскосельской статуи, не содержит в себе ничего, что не было бы заключено в соколовском сюжете. Кажется, Пушкин лишь к тому и стремился, чтобы поэтически описать статую. Но так только кажется. Пушкинский образ подчеркнуто пластичен, его ракурсы всесторонне охватывают детали скульптурного объекта. Но это иная пластика, пластика поэтического слова, в изобразительной конкретности которого проступает лирическая экспрессия.
Она дает о себе знать не только восторженным восклицанием «Чудо!», но и интонационно-смысловыми акцентами слова, его перекличками и сближениями, которые ведут нас к существу авторской мысли, нигде не «сформулированной» явно, слившейся с предметной тканью образа. «Чудо!» — в этом возгласе восторга своеобразный ключ к образной системе «Царскосельской статуи». Здесь действительно воплощено чудо преображения мимолетного и непритязательного мгновения бытия в вечно живой, исполненной мудрости феномен искусства. Впечатление этого чуда навевается «магией» пушкинского слова. Пушкин настойчиво возвращается в этой миниатюре к одним и тем же речевым элементам. В последних двух строках повторяются и варьируются «дева», «урна», «вода», «печально», «сидит», «разбитой» («разбила»). И это в условиях минимального речевого контекста, в пределах всего лишь четырех поэтических строк. Кажется, Пушкин совершенно не озабочен тем, что это настойчивое возвращение к слову может создать впечатление избыточного повтора. Кажется, он даже сознательно стремится к этому. Да, ему нужно это единообразие слова, этот настойчиво повторяющийся речевой ряд, чтобы на его устойчивом фоне крупнее и неожиданнее блеснули новые грани речевого целого, новые сопряжения слова и смысла. А кроме того, ему нужно повторение слова, ибо нужна единая мелодическая тональность, эта музыка печали, которой пронизано стихотворение. Наконец, речь идет о «чуде», о волшебстве искусства, а настойчивое повторение слова несет в себе эффект магического.
Поэтические детали образа повторяются в двух последних строках, но смысловая функция их перестроена, они принадлежат уже другому миру. Это мир вечности и искусства:
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
В словесной цепи возникают новые звенья, стягивающие к себе экспрессивно-смысловые акценты фразы. В третьей строке было: «дева печально сидит». В последней — это речевое единство раздвинуто вторжением новых речевых элементов. В них-то как раз и заключен источник новой интонационно-смысловой энергии:
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.
Не очевидно ли, что здесь основная сила интонационного удара падает именно на варианты повторяющегося слова:
«вечной» — «вечно».
Все так похоже, и все, однако же, разительно перевоплотилось. Нет «праздного черепка», этой случайной и прозаической детали жизненного мгновения. Есть разбитая урна. И «не сякнет вода». И не вода уже это, а «вечная струя». Как над неуничтожимой рекой бытия склонилась над нею «дева». Печаль жизненного мгновения, мимолетное, легкое чувство, не оставляющее следов в душе, перевоплотилось в «вечную печаль», во всеобъемлющую идеологически насыщенную эмоцию. Совершилось чудо одухотворения. Жизненный миг преобразился, наполнился смыслом и, одухотворенный, перестал быть мгновением, сделался причастным вечности. Огромной мыслью о жизни и чуде искусства веет от последних пушкинских строк.
Вместе с тем «Царскосельская статуя» воспринимается как поэтически-лаконичный символ античности, неувядаемой жизнеспособности ее искусства. Легко предвидеть вопрос, вправе ли мы вообще говорить об античности в «Царскосельской статуе»: ведь «прототип» пушкинского образа, скульптура Соколова, изображает всего лишь Пьеретту, персонаж лафонтеновской басни? Вправе. И не только потому, что «Царскосельская статуя» включена Пушкиным в «Анфологические эпиграммы». Сохраняя близкое сходство с «прототипом» в предметном слое произведения, пушкинский образ неизмеримо далеко ушел от него в воплощении художественной мысли. В этой сфере мы вправе судить о нем лишь по законам жанра. И здесь уже нет «царскосельской статуи», а есть иной, жанровый объект. Его античный колорит подкреплен не только принадлежностью стихотворения циклу «анфологических эпиграмм». Он подкреплен жанровыми установками слова и метрической структурой стиха (гекзаметр). Да и в чисто предметной детализации пушкинского образа есть один существенный штрих, оттеняющий различие скульптурного и поэтического объектов, расхождение «прототипа» и образа. В скульптурном изображении Соколова Пьеретта склонилась над разбитым кувшином. У Пушкина вместо кувшина — «урна». Принадлежность этой детали античному кругу поэтических ассоциаций не вызывает ни малейшего сомнения. Да и «вечная струя» жизни — символ, насыщенный античными философскими ассоциациями. Образ потока, реки бытия, знаменующей вечное обновление и одновременное вечное постоянство неиссякающей жизненной стихии, — к этому символу не однажды прибегали античные философы, начиная с Гераклитта. Античный колорит его стерся со временем от многократных прикосновений. Но сила великого искусства, между прочим, заключается и в том, что оно оберегает «вечные образы» от возможного овеществления, очищая время от времени их «магический кристалл», так чтобы сверкали все его грани и чтобы в глубине этого свечения открылся взору тот первоначальный мудрый свет, которым он был наделен у истоков своих.
Есть нечто от неповторимого своеобразия античных скульптурных форм в пушкинской «Царскосельской статуе». Это нечто сказывается в характерном