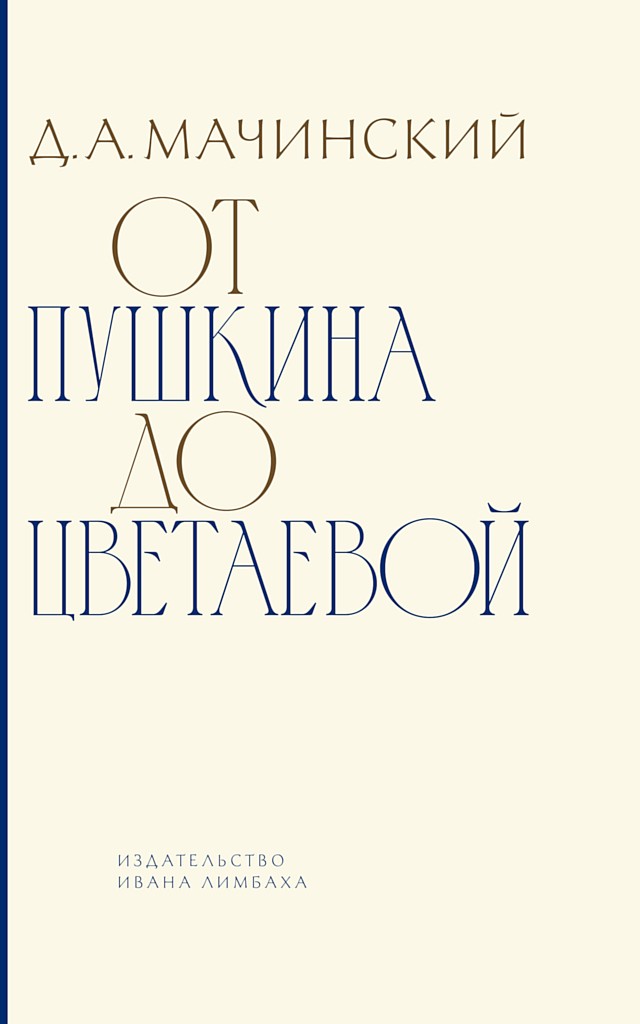без моления, без ладана, без свечи — только с колокольным звоном, столь любимым Цветаевой. В дорогу к последнему прибежищу — «поволокут», «сволокут». Место это — сначала мыслится на кладбище, а позднее на воле, в соотнесенности с образом пути и древа — «промеж четырех дорог», «под дикой яблоней», «под яблоней». Сама смерть видится как «сон», «вольный сон», «вечный сон», успокоение. Героиня не хочет «вечной памяти <…> на родной земле» и не видит ничего за пределами «вольного сна».
Особое место среди этих стихов занимает последнее, как бы подытоживающее тему и одновременно непосредственно предшествующее первому стихотворению к Блоку.
Стихотворение «Настанет день — печальный, говорят!..» посвящено описанию и осмыслению своей смерти. Жизнь, завершаемая смертью, — «себялюбивый, одинокий сон», трагизм смерти — сомнителен («день — печальный, говорят!»), смерть несет с собой преображение («лик», «благообразия прекрасный плат») и даже отождествляется с Пасхой, то есть с воскресением. Однако взгляд автора не проникает дальше благообразия смертного часа, то есть того, что можно наблюдать живым. Воскресение — лишь воскресение в благообразие и успокоение смерти. Смерть эта — одинока, как и жизнь героини («Остужены чужими пятаками — / Мои глаза, подвижные как пламя»), и за нею не мыслится ничего («И ничего не надобно отныне / Новопреставленной болярыне Марине»); в разночтении первой публикации имеем: «Прости, Господь, погибшей от гордыни / Новопреставленной…», говорящее всё о той же невозможности «молиться и покоряться», о которой она писала в 1914 году, и о «гордости глупости», той гордости перед Богом «по молодой глупости» в Москве 1916 года, о которой она вспоминает в 1931 году («История одного посвящения»).
Зная, сколь притягательной и острой была для Марины Цветаевой тема смерти, нет оснований сомневаться в серьезности и искренности звучания ее и в приведенных стихах. Да не смутит читателя известная стилизованность этих стихов под московский народный говор и фольклор. Сама Цветаева писала о московских стихах: «Но писала это не „москвичка“, а бессмертный дух, который дышит, где хочет, рождаясь в Москве или Петербурге — дышит где хочет» (письмо Ю. Иваску от 25 января 1937). И если весь народ-ный и московский антураж — это дань поискам формы, достойной того редчайшего и благороднейшего расплавленного металла, который клокотал в Цветаевой, то тема смерти — это вопрошающий сам себя и мир голос «бессмертного духа», прорывающийся через любые временные формы и плащи.
Через четыре дня после «Настанет день — печальный, говорят!..» Цветаева создает первые стихи, посвященные Блоку, — «Имя твое — птица в руке…» (15 апреля). Стихи эти написаны «взахлеб», не все «подобия» к имени Блока равноценны — среди них есть и более внешние, и наполненные глубоким смыслом, сгруппированы они несколько хаотично, однако и в этом, полном непосредственного первого впечатления, стихотворении сквозь хаос просвечивает строй и от строфы к строфе развивается образная система ассоциаций.
Уже первая строка первой строфы («Имя твое — птица в руке») дает состояние нежности и трепетности, ставит на порог чуда. Далее поэт многократно и любовно перекатывает во рту «короткое звонкое имя» (А. Ахматова), трогает его языком и губами, всматривается в его графику. Само звучание имени, помноженное на все, что поэт знает о личности Блока, порождает ощущение чистого холодка и звона во рту («льдинка на языке», «серебряный бубенец во рту»). Здесь же возникают первые «подобия» на грани физического «я» поэта и внешнего мира («мячик, пойманный на лету»).
Во второй строфе поэт как бы отпускает имя Блока «в мир», подбирая к нему ассоциации: отбрасывает имя от себя («Камень, кинутый в тихий пруд / Всхлипнет так…»), вслушивается в его звучание («В легком щелканье ночных копыт») и снова возвращает его на грань физического «я» и внешнего мира: «…в висок / Звонко щелкающий курок». Любимое имя, процокав копытами по ночной земле, вернулось к поэту, обернувшись мажорным звуком самоубийственного курка.
Однако обратим внимание читателя на то, что курок у виска звонко щелкает только в случае осечки или отсутствия заряда — иначе раздается совсем иной звук, который, к слову, не успевает расслышать стреляющий. И это не обмолвка Цветаевой по незнанию. В день своего семнадцатилетия (26 сентября 1909) юная Марина написала стихи «Христос и Бог! Я жажду чуда…», заканчивавшиеся: «И дай мне смерть — в семнадцать лет!», а весной 1910 года, исполняя свою тайную мечту о «смерти на костре, / На параде, на концерте» [Цветаева 1976: 44], предприняла попытку застрелиться в театре, во время выступления любимой Сары Бернар.
Попытка оказалась неудачной — то ли осечка, то ли курок оказался против пустого гнезда барабана. Можно не сомневаться, что и до спуска курка в театре Цветаева неоднократно репетировала самоубийство с незаряженным пистолетом. Так что «…в висок / Звонко щелкающий курок» — это образ, известный ей не понаслышке. И в 1910 году этот звук означал, что судьба сама разрешает ее колебания между упоением жизнью и притяжением смерти в пользу жизни, звук курка означал — жизнь. Летом 1910 года Цветаева отдает в печать свой первый сборник стихов, затем следует знакомство с Максимилианом Волошиным, а весной 1911-го — встреча с Сергеем Эфроном.
Безусловно, все это не обязан знать читатель. Но для тех, кто за стихами хочет услышать живое трепетание души поэта, этот случай — хороший урок внимательности к точности образа в поэзии Марины Цветаевой, хороший пример укорененности ее поэзии в «биографии души».
Итак, «…в висок / Звонко щелкающий курок» в концовке второй строфы — это жизнь, подаренная на грани смерти.
Третья строфа вбирает мотивы первой (нежность и холод) и второй (жизнь на грани смерти) строф и дает трудноуловимую и еще труднее выразимую в слове систему «подобий». Начинается строфа (сразу после «курка») страшным неназванным «подобием»: «Имя твое — ах, нельзя!» — для которого возможно двоякое объяснение. Первое — это «нельзя сказать», невыразимо, высшая степень любви и нежности, не поддающаяся слову. Второе — предположение, что за «ах, нельзя!» скрывается конкретное звуковое и смысловое «подобие», которое называть — нельзя. Таким подобием может быть только слово «Бог». Анализ всего цикла «Стихов к Блоку» 1916 года делает вероятным и это второе значение, которое, однако, не противоречит первому, а, сливаясь с ним, усиливает ощущение бережности и несказáнности.
С сожалением оставим в стороне превосходную звукопись последней строфы, которая, перекликаясь со смыслом слов и строк, создает тонкую и прочную образную ткань. Ощущение освежающего и живительного хлада наполняет строки. И рядом с этим — образ глубокого сна, перекликающийся и отчетливо разнящийся с образами сна (жизни и смерти) в предшествующем по времени стихотворении от 11 апреля. Если там «остужены чужими пятаками — / Мои глаза…», то здесь «…поцелуй в глаза, / В нежную стужу недвижных век»; если там «себялюбивый, одинокий сон», то здесь «с именем твоим — сон глубок». Неясно, правда, о каком сне идет здесь речь: об