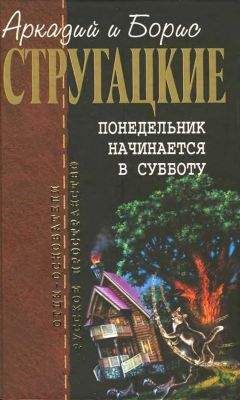там есть только чистый (нематериальный) дух. Таким образом, жить в человеческом теле означает жить со злом; но жить без зла, как чистый дух, по определению означает прекратить быть человеком. В своем подходе к изучению гностических мотивов и символов в сочинениях Стругацких я исхожу из того, что этот явно чуждый, фантастический метафизический дуализм не просто используется ими как научно-фантастическая концепция. Стругацкие прекрасно понимают: «манихейство» не прибыло в современное советское общество из космоса. Напротив, этот тип дуализма (не важно, какого происхождения) давно был неотъемлемой частью русской культуры. Сегодня он проявляется с неожиданной яркостью не только в популярных занятиях спиритизмом, йогой, целительством и другими «внетелесными» практиками, но и в серьезных исторических документах, написанных ведущими умами страны. Например, в своем документальном романе, обличающем сталинистское прошлое, В. С. Гроссман пишет:
Ах, не все ли равно – виноваты ли стукачи или не виноваты, пусть виноваты они, пусть не виноваты, отвратительно то, что они есть. Отвратна животная, растительная, минеральная, физико-химическая сторона человека. Вот из этой-то слизистой, обросшей шерстью, низменной стороны человеческой сути рождаются стукачи. Государство людей не рождает. Стукачи проросли из человека. Жаркий пар госстраха пропарил людской род, и дремавшие зернышки взбухли, ожили. Государство – земля. Если в земле не затаились зерна, не вырастут из земли ни пшеница, ни бурьян. Человек обязан лично себе за мразь человеческую [Гроссман 1970: 70].
В высказывании Гроссмана поражает его фундаментальный дуализм: любое телесное существование немыслимо без зла, от которого невозможно освободиться. Вся человеческая, животная, минеральная и растительная жизнь неизбежно грешна и по определению омерзительна. Искра добра проникает в человеческую жизнь из мира иного – это подает человеку знак наполовину забытая божественная сущность, которая некогда была (в соответствии с гностической мифологией) чистым божеством. Согласно этому представлению, материальный мир не был сотворен Богом, а произведен демиургами.
Значительная примесь восточного, гностического, дуалистического мистицизма в русской светской, а также религиозной культуре особенно активно проявилась в первые десятилетия XX века. Отчасти это было реакцией на научный позитивизм, господствовавший в интеллектуальной жизни на протяжении почти всего XIX столетия. Стругацкие изображают персонажей, относящихся к числу научной интеллигенции (ее мужской части), во многом отдавая дань западному (не социалистическому) реализму в духе господствующей традиции, вдохновленной Э. Хемингуэем, но при изображении «других» – женщин, детей и нечеловеческого разума – они вдохновляются совершено иной, отечественной традицией. В целом представляется, что Стругацкие, описывая характеры женщин, детей и чужих, во многом исходили из системы образов гностического дуализма и Востока. Из чего следует, что антиэмпирические, не подражательные элементы стилистики русских модернистского и авангардистского движений в первом десятилетии XX века проявляются ярче всего в образах этих «других».
Галинская в исследовании, посвященном «Мастеру и Маргарите», настаивает на том, что в образе Маргариты Булгаков намеревался создать литературное воплощение Божественной Премудрости-Софии – идеи Вечной Женственности Соловьева. Эта София, в свою очередь, заимствована из валентинианской школы гностицизма. Валентин полагал, что тьма, а вместе с нею и разрыв между материей и [Божественным] духом, берет начало в самой Божественной природе. «Божественная трагедия», как ее называет Г. Йонас, и необходимость спасения – результат изначальной Божественной ошибки и просчета. В какой-то момент совершенный дух [Бог] обнаружил, что часть Его жаждет созидания: «…и однажды у Хаоса возникла мысль перенести себя в начало всех вещей, и он заронил этот замысел, подобно семени, в лоно Тишины [женского рода], что была с ним, и она зачала и породила Разум [Нус: мужского рода]» [Йонас 1998:184]. Последующие события, в результате которых совершенное предсуществующее Божество (Хаос) отделяется от Своих многочисленных эманаций, которые затем сотворяют мир, трактуются по-своему в различных гностических системах. В представлении Валентина Божественное падение представлено судьбой двух символических фигур – это мужественный Первочеловек и женственная Мысль Бога. Последняя, олицетворяющая подверженную ошибкам сторону Бога, известна под именем София, или Премудрость; в конце концов ее страсть и ее ошибка привели к демиургической деятельности, сотворяющей мир. Двусмысленная фигура Софии, занимающая весь диапазон значений от наиболее духовной Мысли Бога до наиболее чувственной страсти, становится в философии Соловьева Вечной женственностью. Галинская без труда находит в тексте Булгакова многочисленные свидетельства, подтверждающие ее предположение, что Маргарита воплощает в себе гностическое женское начало, и в частности Софию Соловьева. Есть у нее и наблюдение, что в романе исключается всякое сексуальное «плотское отношение» между Мастером и Маргаритой. Когда Маргарита преображается в Божественную Софию, способную принести в мир жизнь (то есть вдохновить Мастера на написание романа), ее «лживое подобие» в виде соблазнительной земной красавицы исчезает.
За нескольким исключениями, женщины в романах Стругацких занимают второстепенное, подчиненное положение. Более того, женским персонажам чаще всего отводится роль или жертв, или виновниц пьяного, звериного соития, совершаемого без любви. В повести «Трудно быть богом» единственную героиню убивают в разгар фашистского переворота. В «Граде обреченном» два второстепенных женских персонажа: шлюха (Сельма) и жертва изнасилования солдатами (Мымра). В «Отягощенных злом» одна мысль о том, что у христоподобного главного героя, учителя Г. А., когда-то были жена и семья, кажется его ученикам нелепой. Женский образ романа – лжепророчица Саджах – также изображается как шлюха.
В «Гадких лебедях» главная героиня Диана играет необычайно важную роль. Как и еще одно уникальное в своем роде изображение женского персонажа (Майя Глумова в романе «Жук в муравейнике»), это исключение лишь подтверждает правило: главная героиня является обычно средоточием сети аллюзий на Божественную Софию гностических и мистических православных воззрений.
В «Гадких лебедях» Диана – любовница Виктора Банева. Он считает, что она ему неверна, поскольку не чурается участия в пьяных оргиях, обычных в общественной жизни скучающего, циничного и испорченного взрослого населения города. Однако Диана также подпольно сотрудничает с группами диссидентов, противостоящих государству и дегенеративной культуре, которую оно поощряет. Она и другие диссиденты защищают преследуемое меньшинство мокрецов, чья цель – увести детей из прогнившего настоящего в новое, сверхчеловеческое будущее. В постапокалиптической сцене в финале произведения, когда со старым миром покончено и солнце светит впервые за три года, Диана-шлюха преображается в Диану Счастливую:
Диана рассмеялась. Виктор посмотрел на нее и увидел, что это еще одна Диана, совсем новая, какой она никогда прежде не была, он и не предполагал даже, что такая Диана возможна, – Диана Счастливая. И тогда он погрозил себе пальцем и подумал: все это прекрасно, но вот что – не забыть бы мне вернуться [Стругацкие 2000–2003, 8: 530] [37].
То есть единственный целиком и полностью положительный образ женщины у