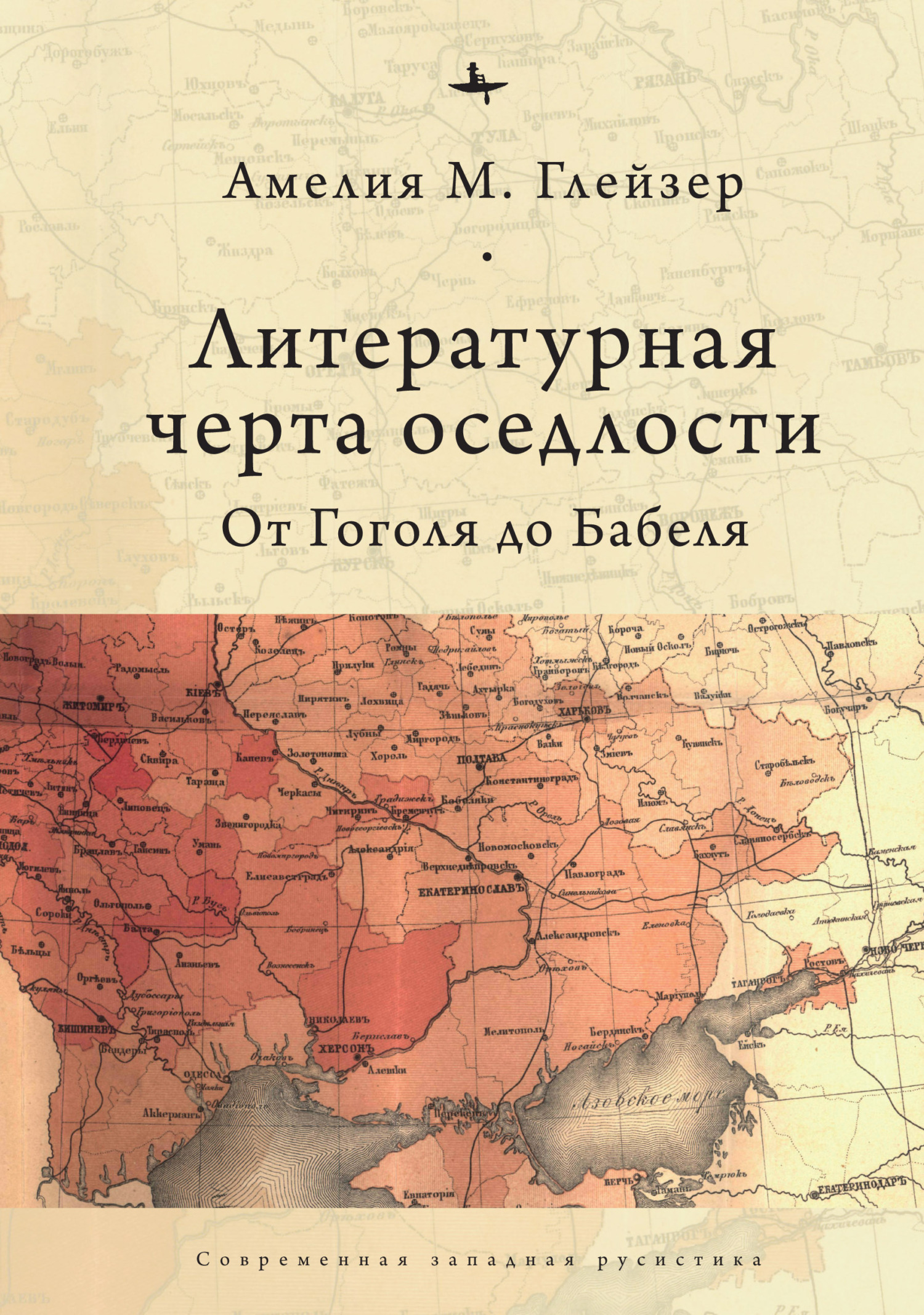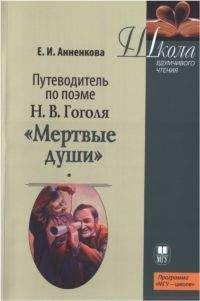– это мир еврейской торговли. Хотя диалог между Менахемом-Мендлом и Шейне-Шейндл звучит наивными голосами простых мужчины и женщины, на самом деле он отображает куда более сложные отношения между традицией и современностью, штетлом и большим городом, чертой оседлости и сионизмом. Между 1892 и 1913 годами (последняя дата имела особое значение для русских евреев – это год, когда в Киеве проходил процесс по делу Бейлиса) Менахем-Мендл странствует по миру, посещая Одессу, Варшаву, Америку и Палестину Шолом-Алейхем адресовал этот цикл тем читателям, которые, как и сам Менахем-Мендл, интересовались переменами, происходившими в еврейском мире, но не могли увидеть их своими глазами.
Как и Абрамович в «Заветном кольце» (в редакции 1888 года), Шолом-Алейхем показывает разлом, пролегший между просвещенным писателем и жителями провинциального штетла. Импульсивный Менахем-Мендл, как и рассказчик Абрамовича Менделе-Книгоноша, предлагает читателю представить себе еврейский мир, не ограниченный одной Касриловкой. Такой призыв включить воображение чем-то напоминает диалог из рассказа Шолом-Алейхема «Семьдесят пять тысяч», происходящий между Янкевом-Иослом и его женой Ципойрой, когда Янкев-Иосл решает (ошибочно), что выиграл по облигации 75 000 рублей:
– Сколько же мы выиграли? – спрашивает она и смотрит мне прямо в глаза, будто хочет сказать: «Пусть только это окажется враньем, получишь ты от меня!»
– К примеру, как ты себе представляешь? Сколько бы ты хотела, чтоб мы выиграли?
– Я знаю? – говорит она. – Несколько сот рублей, наверное?
– А почему бы не несколько тысяч?
– Сколько это – несколько тысяч? Пять? Или шесть? А может быть, и все семь?
– А о большем ты, видно, не мечтаешь? [Sholem Aleichem 1917–1923, 16: 82; Шолом-Алейхем 1959, 4: 59].
Противопоставляя Касриловку остальному огромному миру, Шолом-Алейхем хотел, чтобы его читатели начали мечтать о чем-то большем, даже если шансы на это были не очень велики.
Если Менахем-Мендл (как и многие другие мужские персонажи Шолом-Алейхема) олицетворяет мечту о чем-то большем, то Шейне-Шейндл является голосом приземленной реальности и здравого смысла. Развивая эту метафору, можно сказать, что Менахем-Мендл с его заседаниями сионистов и путешествиями по неведомым местам напоминает образованного еврейского писателя, возможно даже, маскила-идеалиста из числа литературных предшественников Шолом-Алейхема. А Шейне-Шейндл, остающаяся в штетле с их детьми, символизирует еврейского читателя. Как и маскилы, которые, по большому счету, провалились в том, что считали своей главной задачей, – изменении образа жизни обитателей штетлов, Менахем-Мендл, как мы видим из его писем, постоянно терпит неудачу в делах. Для Шейне-Шейндл деньги становятся проблемой в буквальном смысле слова. Вот что она пишет мужу:
Пришла я с базара, – это было в пятницу, купила рыбу, свежую, еще трепетавшую, а ребенок кричит, надрывается! Я его бью, колочу, а он не перестает кричать! «Чего тебе надо? Наказание божие! Тварь противная! На, возьми мои горести! Колики в животе! На тебе копейку! (Na dir tsures mayne! Na dir a kopike! Na dir boykhveytik!)» [Sholem Aleichem 1972: 71; Шолом-Алейхем 1959, 1:359–360].
Все это перерастает в панику, когда монета пропадает и Шейне-Шейндл думает, что ребенок ее проглотил. Копейка оказывается причиной всех бед семьи. Если бы не деньги, не было бы опасности, что дети могут их проглотить, муж перестал бы гнаться за богатством, и в Касриловке не стало бы коррупции.
Шейне-Шейндл больше всего напоминает ярмарочных персонажей Гоголя. Вообще гоголевские герои иногда появляются в Касриловке. Так, в одном из писем Шейне-Шейндл пишет, что в местечко приезжал ревизор выяснять, что произошло с деньгами, выделенными на благотворительность. Шолом-Алейхем заимствует у Гоголя два характерных типа коммерческого пейзажа: бесконечные разъезды, сомнительные сделки и покупка эфемерного товара роднят Менахема-Мендла с Чичиковым, а с помощью Шейне-Шейндл читатель возвращается в украинское пространство памяти – в Сорочинцы с их атмосферой провинциальной ярмарки. Шейне-Шейндл – это автор, чей острый взгляд отмечает все детали повседневной экономики и развеивает иллюзии, питаемые ее непрактичным мужем. Вот что она пишет Менахему-Мендлу:
Я могу рассказать это тебе в трех словах, если только у тебя есть время дослушать меня до конца, если ты можешь хоть на минуту забыть о своих больших сделках, о своих турках, о своих королях и о своих миллионерах и вспомнить, что у тебя есть жена – до ста двадцати лет, которая не умеет писать так красиво, как ее муж-писатель, хотя рассказывать истории может любой крестьянин [Sholem Aleichem 2001: 73].
Как гоголевский рассказчик в «Вечерах…» сравнивал писак с нечистыми на руку барышниками, так и Шейне-Шейндл прямо называет своего мужа-писателя самозванцем и говорит о том, что ей тоже есть что рассказать. Голос женщины в произведении Шолом-Алейхема выполняет очень важную функцию: даже если Шейне-Шейндл говорит от имени тех, кто сохраняет верность еврейским обычаям, она, безусловно, не выступает за сохранение традиционных патриархальных порядков. Через Шейне-Шейндл Шолом-Алейхем раскрывает мудрость и эстетический потенциал, которые есть в штетле и в идише, при этом не романтизируя традиционный еврейский быт. Лирическому герою Шолом-Алейхема необходима жена, живущая в штетле: и как читатель, и как источник сведений о еврейской жизни.
В автобиографии «С ярмарки» Шолом-Алейхем описывает проявившуюся у него в детстве склонность к записыванию повседневной речи. «Герой этой биографии должен признаться, что немалое количество проклятий и острых словечек в своих произведениях он позаимствовал из лексикона мачехи». Архетипичная мачеха юного Шолома напоминает гневливую Хиврю, мачеху Параски из «Сорочинской ярмарки». Дети терпеть не могут новую жену отца, которая постоянно их ругает. Шолом-Алейхем рассказывает, как он день за днем записывал эти ругательства, а потом, «когда их собралось немалое количество, рассортировал их по алфавиту; попотев две ночи подряд, Шолом составил довольно любопытный словарь (tsunoyfgeshtelt a gants faynem leksikon), который он здесь восстанавливает по памяти» [Sholem Aleichem 1917–1923, Тк 11]. Поймав сына за этим занятием, отец, к ужасу мальчика, читает словарь вслух своей жене, что приводит к неожиданным последствиям:
И произошло чудо. Трудно сказать, случилось ли это в хорошую минуту, когда мачеха была в добром расположении духа, или ей неловко было сердиться, но на нее неожиданно напал безудержный смех. Она так хохотала, так визжала, что казалось, будто с ней вот-вот случится удар. Больше всего ей понравились слова «пупок» (pupik) и «каскетка» (kashkashes/ «Пупком» у нее назывался не кто иной, как герой этого жизнеописания, а «каскеткой» она обозвала одного из старших ребят по случаю того, что он надел новую фуражку. Кто же мог предвидеть этот смех? [Sholem Aleichem 1917–1923, 27: 12–13; Шолом-Алейхем 1959, 3: 430].
Писателя и его мачеху объединила любовь к живой