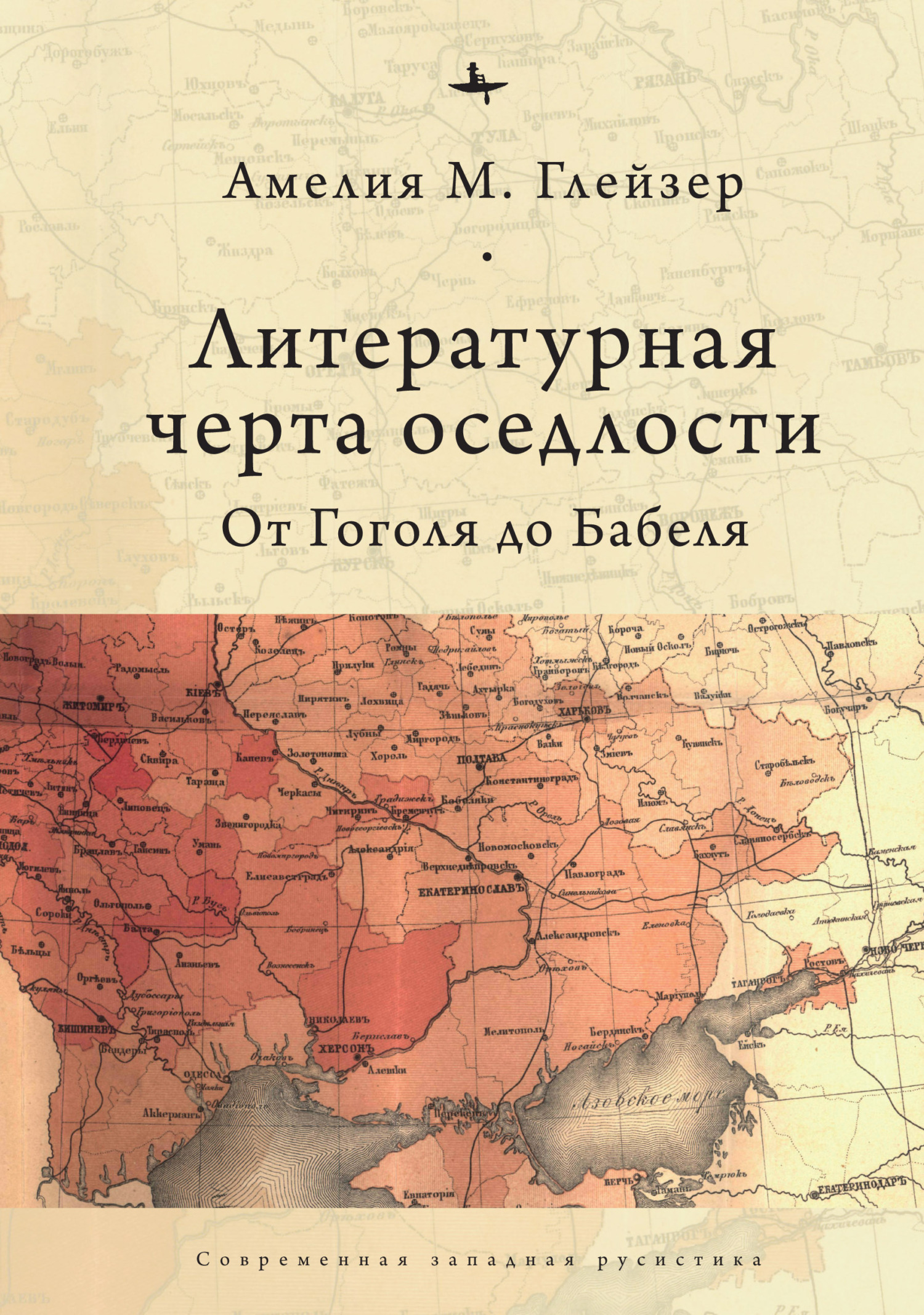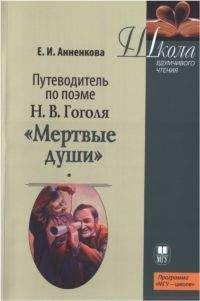Очевидные заимствования, которые Шолом-Алейхем делает из Гоголя и Горького, помещают его творчество в литературный континуум, включающий в себя также вертепные фарсы, Тору, украинских романтиков, русских позитивистов и писателей Гаскалы. То, как в «Заколдованном портном» евреи Козодоевки обвиняются жителями соседнего местечка в преступлении в результате проделки шинкаря Доди, очень напоминает существовавшую в русской провинции традицию объявлять евреев виновниками всех бед. Тем самым Шолом-Алейхем протестует против практики делать целый народ козлами отпущения. Шимен-Эле, как две капли воды похожий на Солопия Черевика, ошибочно возводит вину на козодоевцев. Жители этого местечка с говорящим названием становятся козлами отпущения в глазах прочих евреев и в других рассказах Шолом-Алейхема. Действие рассказа «Великий переполох среди маленьких людей», который, как и гоголевские «Мертвые души», назван автором «поэмой», происходит в местечке Касриловка, чьи жители верят, что в Козодоевке у коз вместо рогов «спереди какая-то необыкновенная загогулина, подобие наголовного филактерия, простите за сравнение» [Sholem Aleichem: 1917–1923, 6: 205; Шолом-Алейхем 1959, 4: 439]. Оказывается, не только сами повинные во всех грехах козодоевцы похожи на коз, но и их козы похожи на евреев: занятная деталь повествования, речь в котором идет, пусть и очень осторожно, об украинском антисемитизме. Встревоженные слухами о надвигающихся погромах, жители Касриловки и Козодоевки поспешно бегут из своих местечек в сторону соседского штетла и встречаются посреди пути. Читатель Шолом-Алейхема, бывший свидетелем новой волны погромов, понимает, что у этой истории не будет счастливого финала. Если и есть место, где касриловцы и козодоевцы могут укрыться от беды, то оно точно находится не на Украине.
Шолом-Алейхем писал в основном про евреев и для евреев [238]. Однако взаимоотношения между различными еврейскими общинами отображают связи, существующие в сложном и многонациональном мире, окружающем их. Если в гоголевских повестях евреи находятся на периферии повествования, то у Шолом-Алейхема это место отведено русским и украинским персонажам [239]. И если гротескные евреи Гоголя являются отличными коммерсантами, которые тесно связаны со свиньями и другими рыночными товарами и извлекают выгоду даже из сделок с чертом (в «Сорочинской ярмарке») или во время войны (в «Тарасе Бульбе»), то герои Шолом-Алейхема, как и их создатель, обычно терпят неудачу в делах, особенно если это сделки со скотом. Тем самым еврейский писатель развенчивает популярный в русской литературе миф о том, что евреи наживаются на своих славянских соседях. Шимен-Эле может цитировать Тору, но не умеет отличить козу от козла. Менахем-Мендл днюет и ночует на рынках, но ни разу даже не дотрагивается до тех животных, которые являются предметом его сделок [240]. Имея страсть к занятию коммерцией, но боясь соприкоснуться с суровой реальностью, Менахем-Мендл терпит неудачи во всех своих начинаниях; единственный товар, с которым он имеет успех на рынке, – это его остроумные послания жене. Как и в коммерческом пейзаже Квитки, реальные товары постоянно одерживают верх над героями Шолом-Алейхема, убивая их задор и разоряя горе-спекулянтов.
В наши дни «Сорочинская ярмарка» и «Тарас Бульба» находятся в тени «Мертвых душ» и «Петербургских повестей», но во времена Шолом-Алейхема это были самые известные произведения Гоголя. Между 1886 и 1892 годами «Сорочинская ярмарка» по количеству изданий и проданных экземпляров уступала только «Тарасу Бульбе» и оставалась в числе трех наиболее популярных произведений Гоголя вплоть до 1903 года [Moeller-Sally 2001:87–95]. Если для Гоголя проклятая свитка в «Сорочинской ярмарке» была в значительной степени олицетворением его страхов перед миром капитализма (где евреи, само собой разумеется, чувствовали себя как рыба в воде), угрожавшим славянской душе, то для Шолом-Алейхема украинская ярмарка, где все чаще происходили акты насилия, направленные против евреев, была местом, представлявшим угрозу уже не духовному благополучию, а физическому существованию еврейского народа. Хотя Гоголь совершенно не предполагал, что его проза послужит просвещению российских евреев, его произведения, пользовавшиеся особой популярностью в те годы, когда Шолом-Алейхем взял в руки перо, оказали огромное влияние на его самопровозглашенного еврейского ученика. Более того, обратившись к темной стороне гоголевского коммерческого пейзажа, Шолом-Алейхем оказался одним из первых, кто заметил тот инфернальный страх, который присутствует даже в веселых украинских повестях Гоголя.
О чем не говорилось напрямую, но что было очевидно всем читателям Шолом-Алейхема – это то, что базарная площадь, как и все, что имеет отношение к смеховой культуре, была опасным местом. Поведав о печальном конце, постигшем портного, рассказчик Шолом-Алейхем прощается с читателем на такой трагикомической ноте:
Началось все очень весело, а кончилось, как и большинство веселых историй, очень печально…
А так как вы знаете, что автор этого рассказа по натуре не меланхолик (moyreshkhoyredik) и плачевным (klogedike) историям предпочитает смешные, и так как вы знаете, что он не терпит «морали», что читать нравоучения не в его обычае, то сочинитель прощается с вами, добродушно смеясь, и желает вам, чтобы и евреи, и все люди на земле больше смеялись, нежели плакали [Sholem Aleichem 1917–1923,16: 68; Шолом-Алейхем 1959:4: 50].
Этот отрывок очень напоминает слова Гоголя о «смехе сквозь слезы» в «Мертвых душах»: «И долго еще определено мне чудной властью итти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы» [241] [Гоголь 1937–1952, 6: 134].
Горький не столько вытеснил Гоголя из литературного пантеона Шолом-Алейхема, сколько занял место рядом с ним. Есть свидетельства, что Шолом-Алейхем хранил на своем рабочем столе переведенную на идиш фразу Гоголя про смех сквозь слезы [Berkowitz 1958: 188–189]. 15 мая 1916 года, когда писатель был похоронен на кладбище Маунт-Нево в Куинсе, на его надгробии была начертана эпитафия, написанная им самим. В последних ее строчках опять возникает этот гоголевский мотив:
И пока весь мир
смеялся, хохотал и аплодировал,
он плакал – это только Богу известно —
втайне, чтобы никто не видел.
Un davke demolt ven der oylem hot
gelakht, geklatsht un fl eg zikh freyen,
hot er gekrenkt – dos veyst nor got —
besod, az keyner zol nit zeyen.
Если для еврейского просвещения литература на идише могла стать полезным инструментом, то для самой этой литературы просвещение могло обернуться смертью. Страх этой утраты преследовал Шолом-Алейхема всю жизнь, и, как мы видим, он в буквальном смысле унес его с собой в могилу. Став писателем, чье имя превратилось едва ли не в синоним еврейской литературы, он уже не воспринимал идиш просто как средство для достижения каких-то важных