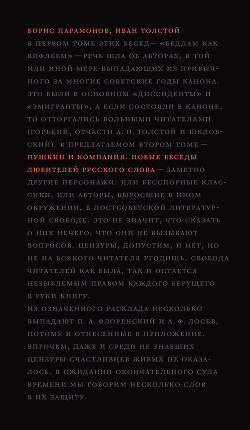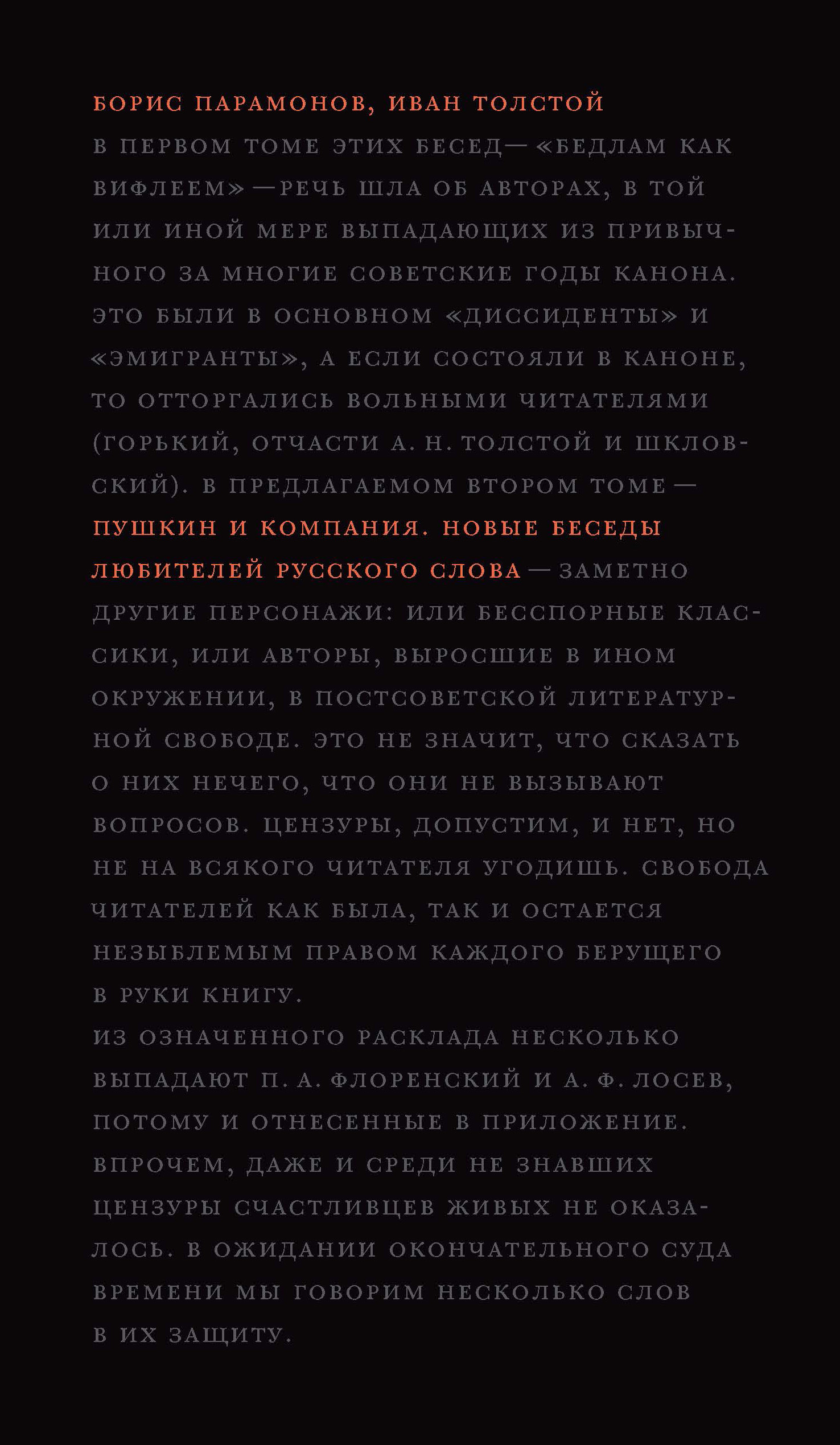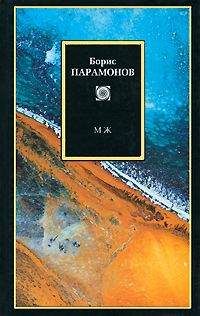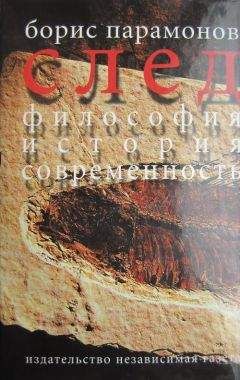Во главе этих беспокойных староверов более всех надоедала Горданову приземистая молоденькая девушка, Анна Александровна Скокова, особа ограниченная, тупая, рьяная и до того скорая, что в устах ее изо всего ее имени, отчества и фамилии, когда она их произносила, по скорости, выходило только Ван-скок, отчего ее, в видах сокращения переписки, никогда ее собственным именем и не звали, а величали ее в глаза Ванскоком <…>.
Староверка Ванскок держалась древнего нигилистического благочестия; хотела, чтобы общество было прежде уничтожено, а потом обобрано, между тем как Горданов проповедовал план совершенно противоположный, то есть чтобы прежде всего обобрать общество, а потом его уничтожить.
– В чем же преимущество его учения? – добивалась Ванскок.
– В том, что его игра беспроигрышна, в том, что при его системе можно выигрывать при всяком расположении карт, – внушали Ванскок люди, перемигнувшиеся с Гордановым и поддерживавшие его с благодарностью за то, что он указал им удобный лаз в сторону от опостылевших им бредней.
– В таком случае это наше новое учение будет сознательная подлость, а я не хочу иметь ничего общего с подлецами, – сообразила и ответила прямая Ванскок.
Она в эти минуты представляла собою того приснопоминаемого мольеровского мещанина, который не знал, что он всю жизнь говорил прозой.
Чтобы покончить с этой особой и с другими немногими щекотливыми лицами, стоявшими за старую веру, им объявили, что новая теория есть «дарвинизм». Этим фортелем щекотливость была успокоена и старой вере нанесен окончательный удар. Ванскок смирилась и примкнула к хитрым нововерам, но она примкнула к ним только внешнею стороной, в глубине же души она чтила и любила людей старого порядка, гражданских мучеников и страдальцев, для которых она готова была срезать мясо с костей своих, если бы только это мясо им на что-нибудь пригодилось. Таких страдальцев в эту пору было очень много, все они были не устроены и все они тяжко нуждались во всякой помощи, – они первые были признаны за гиль, и о них никто не заботился. По новым гордановским правилам, не следовало делать никаких непроизводительных затрат, и расходы на людей, когда-нибудь компрометированных, были объявлены расходами непроизводительными. Общительность интересов рушилась, всякому предоставлялось вредить обществу по-своему.
Ванскок это возмутило до бешенства. Она потребовала обстоятельнейших объяснений, в чем же заключается «дарвинизм» нового рода?
– Глотай других, чтобы тебя не проглотили, – отвечали ей коротко и небрежно.
Но от Ванскок не так легко было отвязаться.
– Это теория, – сказала она, – но в чем же экспериментальная часть дела?
– В борьбе за существование, – было ей тоже коротким ответом.
– Ну позвольте, прежде я верила в естественные науки, теперь во что же я буду верить?
– Не верьте ни во что, все, во что вы верили, – гиль, не будьте никакою гилисткой.
– Но как приучить себя к этому? – мутилась несчастная Ванскок. – Я прежде работала над Боклем, демонстрировала над лягушкой, а теперь… я ничего другого не умею: дайте же мне над кем работать, дайте мне над чем демонстрировать.
Ей велели работать над своими нервами, упражнять их «силу».
– Как?
Ей дали в руки кошку и велели задушить ее рукой.
Ванскок ни на минуту не подумала, что это шутка: она серьезно взяла кошку за горло, но не совладела ни с нею, ни с собою: кошка ее оцарапала и убежала.
– Из этого вы видите, – сказали ей, – что эксперименты с кошкой гораздо труднее экспериментов с лягушкой.
Ванскок должна была этому поверить. Но сколько она ни работала над своими нервами, результаты выходили слабые, между тем как одна ее знакомая, дочь полковника Фигурина, по имени Алина (нынешняя жена Иосафа Висленева), при ней же, играя на фортепиано, встала, свернула голову попугаю и, выбросив его за окно, снова спокойно села и продолжала доигрывать пьесу.
Ну что можно сказать об этом тексте? Он был бы вполне уместен, скажем, у абсурдиста Сорокина; но Лесков ведь считал и других убеждал, что он пишет реалистический роман, что персонажи его из жизни взяты, что это едва ли не фотографии. Это, конечно, звучало неубедительно. А заметили общую направленность текста? Раньше, мол, действительно, встречались бескорыстные нигилисты, а сейчас их даже нигилистами не называют, а зовут просто «гиль», и нынешние борцы за прогресс главным образом собственную корысть преследуют. И это писалось о людях, которые были накануне их героического хождения в народ. Нельзя эти тексты Лескова оправдывать никоим образом. Это не только художественно несостоятельные, но и морально неприемлемые тексты.
Но все-таки оставим мораль в стороне. Романы эти плохи не потому, что Лесков на молодых ополчился. Не такое уж в конце концов сокровище были эти гробианы-материалисты, как у Набокова говорится. Лесков сделал ошибку, взявшись за роман вообще. Это не его жанр. Что нужно в романе? Система персонажей, которые в их самодвижении рождают сюжет, а сюжет в свою очередь разворачивается в некую значимую картину, имеющую даже и мораль. Вот роман – «Анна Каренина». У Лескова же нет имманентно значимых героев, это какие-то обрывки каких-то реально существовавших людей. Моментальные фотографии, если угодно.
И. Т.: Он и говорил, оправдываясь в клевете: это не клевета, а реальные фотографии реальных людей.
Б. П.: Так это не оправдание, а вящее ему порицание. Эти персонажи не наделены внутренней логикой развития, поэтому вокруг них не может развернуться значимый сюжет, а начинаются всякие сторонние выдумки. В «На ножах» даже убийства и пожары происходят – помимо всякой революционной деятельности. Вот именно: не революционная деятельность, а уголовщина. Герои взяты вроде из русской жизни, а действие им придумано из дурного романа приключений.
И. Т.: Борис Михайлович, минуточку! Ведь и в «Бесах» уголовщина, убийства и пожар, и так же современники называли это клеветой, а по прошествии времени мы увидели в «Бесах» пророчество о русской революции.
Б. П.: Правильно, но «Бесы» никак нельзя назвать реалистическим романом, он метафизически приподнят, и такой укрупненный масштаб придает ему Ставрогин – фигура уж совсем не реалистическая, даже на реального злодея Нечаева не похожая – бери выше.
И еще одно обстоятельство первостепенной важности, способствовавшее неудачам Лескова: он даже не то что не знал современных ему молодых людей – все-таки он их худо-бедно видел, – он их не любил. Он вообще интеллигенцию не любил. А не любишь, так и не берись писать. Или по Станиславскому: изображаешь злодея – покажи, в чем он добр. То есть объем дай, так тени наложи, чтобы объем почувствовался.
Знаете, кого и что напоминают герои этих романов Лескова, даже не сами герои, а манера их подачи? Авиетту из солженицынского «Ракового корпуса». Помните, в конце первой части к сталинистукадровику Русанову приходит в больницу дочкапоэтесса, недавно вернувшаяся из Москвы и пристроившая там свою книгу. И рассказывает отцу о новостях и вообще атмосфере столичной жизни. Густой, злой и малореалистический фельетон.
И. Т.: Клеветон, как сказал бы Лесков.
Б. П.: Вот именно. И когда эту первую часть «Ракового корпуса» обсуждали на собрании московских писателей (сделал Солженицын такой дипломатический маневр), то все и всё хвалили, и все в один голос говорили: не нужна Авиетта, плохо, лучше бы убрать ее.
И, как мы знаем, Лесков свои выводы из этих неудач сделал, хотя и не рвался их признать неудачами. Он отошел сразу и от темы интеллигенции, и от жанра романа. Стал писать, так сказать, в русском жанре, в нем и прославился. Причем даже за границей его такого оценили, хотя мне трудно понять, как можно оценить Лескова в переводах. Мне кажется, он в принципе непереводим, как стихи. Но в нем оценили этот самый стиль рюс. Как собор Василия Блаженного очень нравится иностранцам, хотя люди понимающие знают, что это отнюдь не шедевр древнерусской архитектуры. Шедевры – в Новгороде и Пскове, сколько уж там их осталось.