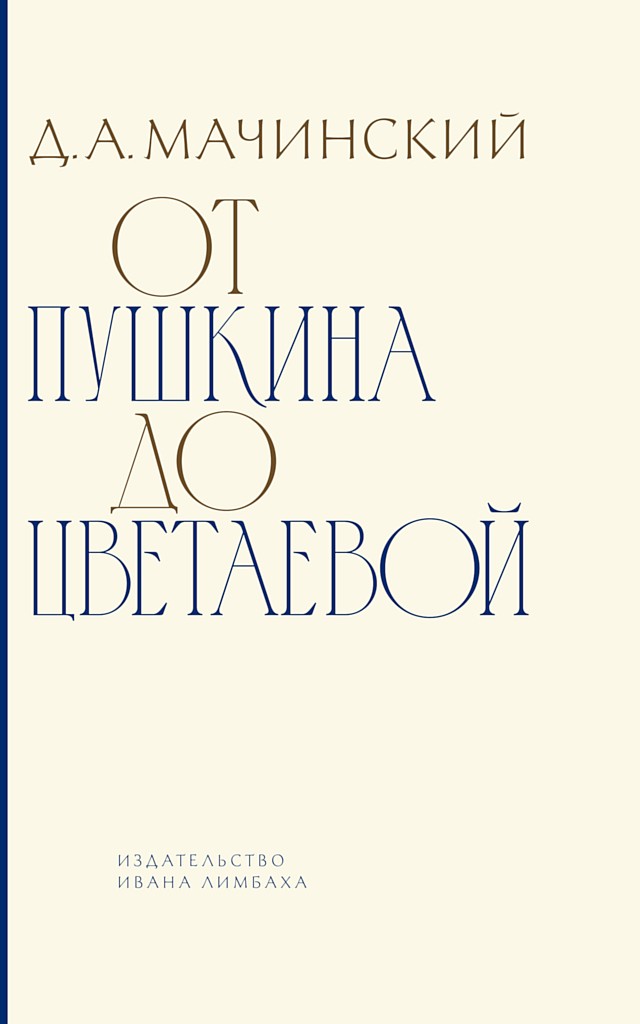дано мне ничего,
В ответ на праздник, мной даваем.
Так яблоня — до одного
Цветы раздаривает маем!
Яблоня в поэзии Цветаевой дается как чистое произведение природы, как дикая яблоня, цветущая и плодоносящая по воле и даже вопреки воле людей (ср. в «Поэме Лестницы»: «Дерево, доверчивое к звуку / Наглых топоров и нудных пил, / С яблоком протягивало руку»).
Внимательное исследование генезиса и эволюции образа небольшого женственного дерева (в особенности рябины, яблони и ивы, которая также скрыто присутствует в опубликованном черновом наброске) позволит достаточно полно выявить трудноуловимый и многозначный смысл куста-рябины в концовке стихотворения.
Однако еще до этого невозможно не использовать даваемый самою Цветаевой ключ к пониманию данного образа. Итак, автор бросает читателя в конце стихотворения в момент встречи с кустом рябины, в момент возникшего и, как мы понимаем, многое разрешающего противостояния героини и деревца.
Известно, какое значение придавала Цветаева хронологии при исследовании своей, дневниковой по природе, лирики. Поэтому нельзя не обратить внимание на то, что в тот же летний сезон 1934 года было написано и стихотворение «Куст» (около 20 августа), которое в издании 1965 года, видимо в соответствии с перебеленными черновиками самой Цветаевой, помещено непосредственно за стихотворением «Тоска по родине! Давно…». Во всяком случае, концовка последнего и начало первого читаются как непрерывный авторский монолог, и если бы не изменение размера, то можно было бы принять эти самостоятельные вещи за две части одного стихотворения.
Итак:
Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина…
(«Тоска по родине! Давно…»)
и далее:
А мне от куста — не шуми
Минуточку, мир человечий! —
(«Куст»)
Как будто автор, пораженный возникшим в минуту безнадежности в его сознании образом куста, вступает с ним в диалог, начинает медитировать с помощью этого образа.
Место, которое занимает в мирочувствии автора образ куста в обоих стихотворениях, — почти идентично. В первом, после отказа от всех территориальных, временных, человеческих и, что для поэта важнее всего, языковых связей, после всего и надо всем, — вдруг возникает — куст, вводимый многозначительным «но если», возникает как надежда вопреки, как знак некой иной родины, как нечто, способное уравновесить все отказы.
Во втором же:
Чтó нужно кусту от меня?
Не речи ж!
(Курсив мой. — Д. М.)
И далее:
Что нужно кусту — от меня?
Имущему — от неимущей!
А нужно! иначе б не шел
Мне в очи, и в мысли, и в уши.
Не нужно б — тогда бы не цвел
Мне прямо в разверстую душу,
Что только кустом не пуста.
Поэт, оставленный всеми и обездоленный, находит мощный источник душевной жизни и творчества в кусте, которому он, поэт, нужен и растворяясь в котором поэт обретает нечто, превышающее все, от чего он отказался и чего лишен. Цветаева твердо знает, что кусту нужно от нее не того, чем обольщены люди в поэте, — не речи, а уж ей-то от куста — тем более. И она, создатель и носитель «высшей формы существования языка» — поэзии, знает границы выразительных возможностей всякого языка — и родного, и не родного:
Да вот и сейчас, словарю
Придавши бессмертную силу, —
Да разве я тó говорю,
Что знала, пока не раскрыла
Рта, знала еще на черте
Губ, той — за которой осколки…
И снова, во всей полноте,
Знать буду, как только умолкну.
И это состояние наполненности души, реализуемое в многообразном и бессловесном общении с кустом, переходя через черту рта, выражаясь в поэзии, разбивается и разливается, и бессмертные стихи (к коим, несомненно, относится и гениальный «Куст») — лишь осколки того дословесного знания и понимания.
Но если поэт со всей полнотой переживает эти «моменты истины», «состояния наполненности» лишь в короткие предтворческие промежутки, то куст — прирожденный носитель и источник этого дословесного знания. И вся вторая часть «Куста», после чеканности формы первой, — попытка доискаться, договориться до, прорваться к определению той невнятицы, того «шума ушного», того бесконечного содержания «между молчаньем и речью», сокровищницей которого является куст. Эта попытка, обреченная на неудачу по природе своей (и поэт это знает), заканчивается как бы поражением: все попытки сказать что-то огромное и невыразимое заканчиваются тем, что, оказывается, поэт хочет «полной» «тишины». Но мы, если у нас есть внутренний слух, уже знаем, что полнота этой тишины не есть просто максимум беззвучия и успокоенности, а полнота беззвучной максимальной наполненности тем содержанием, из коего, по существу, до и вне всех человеческих социально-пространственно-временных возбудителей, черпает поэт.
Куст для Цветаевой — это вход в Аид (смотрите письмо к Иваску), или в Блаженное царство, вход в тот мир праобразов, праистин и праборений, откуда, по ее убеждению, и происходят, в душевной основе своей, сами поэты. Через куст происходит общение с истинной Родиной.
Выражение «шум ушной», вероятно, восходит к блоковскому «непрерывному шуму в ушах», который он ощущал в процессе написания «Двенадцати», тогда, когда он единственный раз ощутил себя Гением. Из «ушного шума» рождались и все лучшие, органично созданные вещи самой Цветаевой, и написать прозой об этом «шуме ушном» она считала своим особым долгом, откладывала эту труднейшую задачу на последние годы и, кажется, не успела написать, если не считать гениальные и, по существу, исчерпывающие (имеющий уши да слышит!) строки в «Кусте».
Но здесь же возникает и важное, и плодотворное, и неразрешимое (а потому бесконечно плодотворное) противоречие: этот «шум ушной», идущий из души или через куст (древо), принципиально невоплотим в слове, но он — импульс к творчеству, он бросает поэта к перу и бумаге, он жаждет воплощения, и весь «Куст» — это попытка преодолеть и воплотить средствами языка принципиально непреодолимое и лишь частично поддающееся воплощению, более того, это попытка средствами языка воплотить представление о невоплотимости. Результат — одно из лучших стихотворений одного из лучших поэтов XX века — налицо.
Вечный, древний, природный источник творчества, прибежище и опора поэтов — куст, древо, шум ушной, шум души, шум куста.
Вот что мог дать Марине Цветаевой встреченный «по дороге — куст», вот чем он мог заменить ей родину и современность. А то, что «иной мир» осмыслялся ею зачастую именно как «родина», доказывается написанным ею двумя годами ранее стихотворением