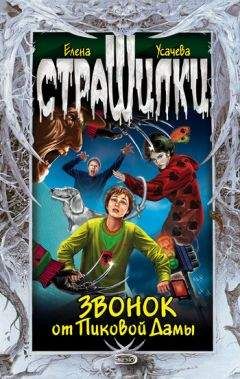собеседниц со слезами протестовала против такого раздробления империи, Александр горячо возразил ей: „Да, да, я не оставлю их во владении России! Но, — прибавил он, — почему же вы видите великое зло в отделении от России нескольких губерний? Разве она не будет достаточно велика?“» [373].
Вся книга рассчитана на европейского, а не на русского читателя. Особенно это заметно в последней фразе. Только для человека, никогда не бывавшего на заснеженных, малолюдных просторах с их тяжелым, нехлебородным климатом, Сибирь тех времен равносильна Подолии. Глядя на карту, этой разницы не почувствуешь, зато почувствуешь угрозу от огромного единого пятна, нависшего над Европой и постоянно расширяющегося.
Кроме того, угроза ощущалась от другой цивилизационной модели, которая несмотря на европеизацию сохранялась в России. Поэтому ощущение черной дыры, куда падают целые народы, так сильно и у британцев, и у тех русских, которые разделили их взгляд на мир. Очередной кусок земли для России — есть кусок земли для дьявола. Недаром предостерегающие слова на карикатуре о Екатерине II произносит римский первосвященник — он острее других монархов осознает угрозу чужеродного. А Польша, по поговорке того времени, — любимая дочь престола святого Петра.
«Злобная колдунья»
Перед похожим выбором: Варшава или Константинополь стоял император Николай I после победы в войне с Турцией 1828–1829 годов. Тогда русские войска не то чтобы не смогли — откровенно не стали брать Константинополь, опасаясь вмешательства со стороны Англии. В сентябре 1829 года Николай I писал Ивану Ивановичу Дибичу: «Перейдем к случайностям, осуществления которых молю Бога не допустить! Это увидеть нас владыками Константинополя и тем вызвать, следовательно, исчезновение Оттоманской империи в Европе… Тем более вы не дозволите никакому иностранному флоту войти в Дарданеллы. Полученные мною сегодня… известия из Лондона положительно утверждают, что министерство совершенно поражено успехами нашего оружия» [374]. Министр иностранных дел лорд Абердин сказал русскому послу Ливену: «Пощадите нашу честь».
Пощада была дарована. А зря.
Обратим внимание: Константинополь — Дарданеллы — Лондон поставлены в один ряд. Угадывается покровительство британского министерства турецкой стороне, реальна угроза продвижения английского флота к Константинополю, чтобы воздействовать на русскую сторону и понудить ее к «умеренности».
«Отнесем все Богу и будем спокойнее, скромнее, великодушнее и последовательнее прежнего». Это уже о временах Екатерины, когда, по мнению Николая I, скромности и великодушие не было. А также о временах Павла I и Александра I, когда не было последовательности в укреплении позиций, завоеванных при бабке.
Продвижение вперед означало международный кризис, что император хорошо понимал. Но требовалось еще успокоить Дибича: «Положение ваше достойно главнокомандующего русской армии, стоящей у ворот Константинополя, оно баснословно… прусский посланник, являющийся в вашу главную квартиру и приносящий мольбы султана и свидетельство о гибели, подписанное послами французским и английским! После этого остается только сказать: велик русский Бог…» Снова европейские дипломаты, опекающие султана, играют большую роль, чем сами турки. Но именно с их державами следовало считаться.
Не победными были и настроения дома. Сетовали, вспоминали грозные для турок времена Екатерины. Слишком великие надежды всколыхнулись на пути к Царьграду. Бывший декабрист Федор Глинка писал в 1829 году: «О русский царь! О наш Олег! Дерзай! В Стамбуле цепенеют…» Оцепенение действительно было, как и бегство султанских чиновников из своей столицы. Император отождествлялся с легендарным князем Олегом, прибившим «щит на вратах Цареграда». Это был настоящий соблазн. Пушкин ему поддался. Царь поборол.
В письме Ивану Федоровичу Паскевичу он рассуждал: «Ничто столько не украшает величие дела, как скромность… Во всяком деле, нами исполняемом, вы должны искать помощи Божьей; Его рука нас карает, Его рука нас возносит». И о выводе войск: «Надеюсь, что без большого затруднения исполнено будет очищение края, которого удерживать за собой не признал я полезным для России в строгом смысле ее выгод» [375].
Поэт не без затаенного упрека написал «Олегов щит». Однако реальная политическая возможность взять город, в отличие от военной, отсутствовала. Как отсутствовало и желание разорять чужой край, отвлекаться от внутренних дел на воссоздание Греческой империи, которой Константин к тому же отказывался править.
Чтобы раздавить Россию, на нее достаточно было положить новые проблемы. Николай I разумно уклонился, за что не нажил похвал. Людской молве громкая слава дороже. Курьера, проехавшего через старую столицу, император спросил: «Что говорит Москва?» Ответ ему не понравился: «Москва жалеет, что не взят Константинополь. Старики вспоминают Екатерининское время и вздыхают». Вот тогда-то Николай впервые произнес знаменитую фразу: «А я так рад, что у меня общего с этой женщиной только профиль лица» [376].
Однако общего оказалось гораздо больше. Например, проблемы. Что доказала Варшава.
После войны, собрав волю в кулак, овеянный недавними победами над персами и турками император решился короноваться в Польше. Константин не одобрял и этого шага, желая сохранить польский престол пустым. Не для того, чтобы сесть на него, а для того, чтобы не прояснять ситуации. Николай мыслил иначе — коронация состоялась. Правда, в торжественные дни было предотвращено покушение на жизнь нового короля [377], что не служило признаком стабильности.
Через год собрался сейм, ранее не собираемый Константином восемь лет. Однако ситуация продолжала оставаться сложной. Недовольство великим князем давно пересилило в поляках всякую благодарность Александру I, сохранившему их государственность, даровавшему конституцию и воссоздавшему польскую армию, с которой вскоре предстояло воевать русским войскам.
Грозным предвестием будущих событий оказалась неприятная встреча со старой княгиней Изабеллой Чарторыйской по дороге на Брест-Литовск. В ее великолепной резиденции Пулавы, в трехэтажном дворце-игрушке, всегда останавливался, проезжая через Польшу, император Александр I. Он тепло относился ко всему семейству Чарторыйских, дружил с сыном княгини Адамом, которой в начале царствования даже был русским министром иностранных дел, но с нашествием Наполеона изменил старому сюзерену. Теперь Адам выступал в сейме с похвальными речами в адрес покойного «нашего Ангела». Но ему не доверяли и считали, что при первой возможности он снова перебежит. Через несколько месяцев это мнение подтвердилось.
Сама княгиня собирала около себя толпы «недовольных и интриганов». Николай I, в отличие от брата, не умел делать доброжелательное лицо, когда ему кто-то не нравился, и решил не задерживаться у старухи. «На последней станции в Пулавах… какой-то человек во фраке от имени княгини пригласил императора остановиться в ее жилище, — писал Бенкендорф. — Удивленный до глубины души такой вольной манерой приглашать своего государя император вежливо отказался».
Поехали дальше. Не тут-то было. Оказывается, Изабелла Чарторыйская только хотела подчеркнуть свое высокое положение. Но отказ августейшего гостя посетить ее, забвение русскими государями дороги в Пулавы роняли старую княгиню в глазах собиравшихся у нее прихлебателей.
После переправы императора на лодке через Вислу хозяйка замка явилась сама в окружении целой толпы и стала просить Николая Павловича