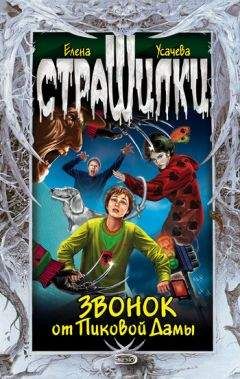бедного инженерного офицера?
Описание героини истории в полной мере соответствовало Долли: ее высокое положение, заметная разница в летах с мужем, даже дружба с императрицей. (Насколько это возможно для иностранной посланницы.) Александра Федоровна принимала Фикельмон очень тепло, переодевалась на маскарад, дававшийся в Белом зале австрийского посольства, в ее комнатах, брала с собой на придворные балы. Сыграло роль и некоторое сходство характеров: обе дамы предпочитали не концентрировать внимание на печальной стороне жизни, не любили меланхолии, не «пережевывали» подолгу неприятности, а старались выбирать радостные моменты. В этом смысле Долли подходила императрице по темпераменту, что стало залогом успеха при дворе.
Обратим внимание на появление некоей фрейлины возле героини рассказа. Та зашла в дом буквально на несколько минут, чуть поговорила с «дамой» и уехала. Так может вести себя только человек, дому не чужой. Например, фрейлина проводила сестру и вернулась во дворец в своей карете. Сестрой Долли была Екатерина Федоровна Тизенгаузен, служившая фрейлиной и часто посещавшая мать с сестрой на квартире Фикельмона.
Благодаря этим параллелям, как нам кажется, сам особняк назван верно. А замена «постарелой» возлюбленной Элизы Хитрово на более молодую и завидную красавицу Долли — дань мужским амбициям поэта [386]. Добавим, что в рассказе может быть передана и сублимация чувства, примеров чего много в творчестве Пушкина. Характерна медвежья шкура с духами — такие картины чаще возникают в воображении.
Любопытен образ «чопорной француженки», «ловкой в подобных случаях». Откуда у дамы с репутацией, как белый лист, опытная наперсница? Либо репутация не так бела, как принято считать. Либо «француженка» забрела из какой-то другой истории, где услуги «третьего» необходимы любовникам.
Сходство ее функции — ловкая помощь героям, чья связь должна остаться незамеченной, — роднит старую француженку с молодой «быстроглазой мамзель» из модной лавки, которая принесла Лизавете Ивановне письмо Германна. Возможно, так трансформировался этот образ. Также возможно, что и сама история — еще один устный вариант петербургской повести, как «Уединенный домик на Васильевском острове». Только теперь он рассказан Нащокину и достоянием гласности стала небольшая линия — герой заходит в дом, дожидается кульминации действия, выходит из особняка.
Рассмотрение истории дамы с безупречной репутацией как особой новеллы узаконено еще Леонидом Петровичем Гроссманом [387].
«Да здравствуют гризетки!»
Косвенная отсылка к Фикельмонам есть в тексте «Пиковой дамы». Когда старуху-графиню посещают гости, Германн стоит перед «домом старинной архитектуры» «в одной из главных улиц Петербурга». «Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другою катились к освещенному подъезду, из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак».
«Дипломатический башмак» принадлежал Фикельмону, а вот «стройная нога молодой красавицы» — его жене Долли. Многочисленные зарисовки ножек встречаются на черновиках Пушкина. Которые из них принадлежат Дарье Федоровне?
В повести описан приезд к графине — следовательно, визит посланника и посланницы в дом старухи Голицыной. Такое знакомство состоялось в ноябре 1829 года и было описано Фикельмон не без чувства некоторого удивления: «Вчера впервые посетила салон княгини Вольдемар Голицыной {16}, еще именуемой Princesse Moustach. В нем царит некоторая напряженность и церемонность, но старая княгиня — сплошная учтивость и любезность». Съезд на именины в декабре не прояснил ситуации: «Уже в продолжение тридцати лет в этот день к ней приезжает весь двор, и по негласному уговору весь город. Не знаю, на чем зиждется подобного рода учтивость; но теперь это вошло в привычку и стало традицией» [388].
Понимала или не понимала Долли окружающие нравы, она им следовала, что во многом и предопределило ее успех в качестве посланницы. Петербургское общество приняло ее. В отличие, например, от вернувшейся из Лондона Доротеи Ливен, сестры Александра Бенкендорфа, супруги бывшего посла в Англии, которую саму именовали «мадам посол». Эта сильная яркая женщина оказалась слишком иностранкой в родном когда-то городе [389]. Не переняла приемы петербургского общества — слишком скованные и холодные, даже по мнению внучки Кутузова. А попробовала привить ему свои, вернее британские. Что и предопределило неуспех, несмотря на начальную поддержку монарха, высокое положение брата, огромные связи и интерес к себе, который на первых порах вызвала хозяйка одного из самых интересных европейских политических салонов. Победили все-таки вечера у Фикельмонов. В схватке «двух Долли» Ливен вынуждена была отступить, а затем покинула Россию, чтобы поселиться в Париже.
А вот Дарья Федоровна примерялась к привычкам новой старой родины. Возможно, кое-что ощущала интуитивно. Возможно, ей многое прощали за родство с легендарным фельдмаршалом, но еще больше — за такт. Безропотные посещения княгини Вольдемар Голицыной это показывали.
Дарья Христофоровна Ливен. Около 1814 г.
Александра Осиповна Смирнова-Россет. Э. Мартен. 1830-е гг.
Узнай Дарья Федоровна историю, которую Пушкин поведал Нащокину, она была бы возмущена до глубины души. На страницах своего дневника дама не раз писала о сильном чувстве к мужу. Благословляла Бога за то, что ей довелось встретить именно Шарля Луи. Даже блеск роли супруги одного из первых дипломатов мерк по сравнению с личным блаженством: «Существует разница между мнимым и подлинным {17} счастьем. Женщина, чье счастье составляет лишь положение ее мужа в обществе, трепетала бы при мысли, что в один прекрасный день эта комедия может кончиться. Меня же, которую делает счастливой сам Фикельмон, а не преимущества его положения в обществе, все это мало волнует, я над этим только посмеиваюсь, и если завтра весь этот блеск исчезнет, я не стану ни менее веселой, ни менее довольной, лишь бы только быть рядом с ним и [дочерью] Элизалекс, и я буду счастлива до глубины души!» [390]
Исследователи, склонные верить в реальность истории Нащокина, словно не видят этих слов. Или не придают им значения. Тем не менее есть основание не считать Долли таким уж «монастырем добродетели», как убеждены противники версии «жаркого романа» между нею и Пушкиным, выдвигающие на роль дамы с безупречной репутацией Аграфену Федоровну Закревскую. Репутация последней давно была заброшена, как чепец за мельницу. Во многом по этой причине ни о какой дружбе с императрицей не могла идти речь — Николай I просто не подпустил бы даму с таким «послужным списком» к своей жене.
Когда в «Евгении Онегине» поэт в 1823 году рассуждал о добродетелях дам из высшего света, он имел в виду Елизавету Воронцову, как бы дико после работ Татьяны Цявловской не звучало это мнение. «Довольно скучен высший тон», именно потому, что, как Пушкин писал Елизавете Хитрово, «я больше всего на