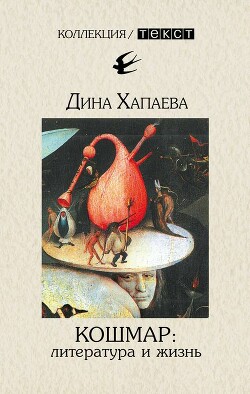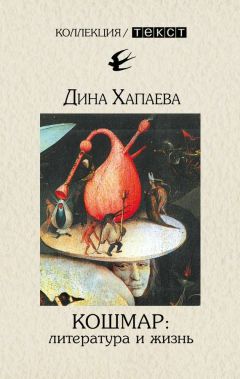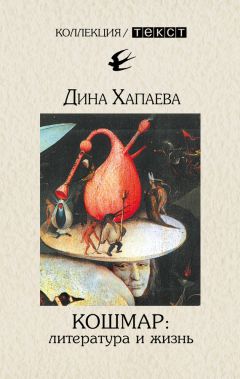401
Там же, с. 157. И все же критик постоянно ощущал активное сопротивление своего материала и старался объясниться по этому поводу с читателем, как, например, вот в этом месте, где ощущение неполного — мягко говоря — соответствия между произведениями Достоевского и концепцией мениппеи Бахтину приходится приписать иронии, которая тоже в конечном счете объявляется чертою жанра: «Можно даже сказать, что жанр мениппеи раскрывает здесь свои лучшие возможности, реализует свой максимум. (…) Достоевский не писал и пародии на жанр, он использовал его по прямому назначению. Однако нужно заметить, что мениппея всегда — в том числе и древнейшая, античная — в какой-то мере пародирует себя самое. Это один из жанровых признаков мениппеи» (Там же, с. 189).
402
Там же, с. 140.
403
Там же, с. 104.
404
«Пародирующие двойни стали довольно частым явлением и карнивализованной литературы. Особенно ярко это выражено у Достоевского, — почти каждый из ведущих героев его романов имеет по нескольку двойников, по-разному его пародирующих — Свидригайлов, Лужин, Лебезятников для Ставрогина — Петр Верховенский, Шатов, Кириллов, для Ивана Карамазова — Смердяков, черт, Ракитин. В каждом из них (то есть из двойников) герой умирает (то есть отрицается), чтобы обновиться (то есть очиститься и подняться над собой)» (Там же, с. 170).
405
Там же, с. 150–151.Согласно Бахтину, уже сократический диалог строился на карнавальной основе, уже его герои были идеологами, и из него рождалась мениппова сатира как особый жанр, как испытание истины словом. Попутно также выясняется, что фантастичность менипповой сатиры «подчинена функции провоцирования и испытания правды», доходя порой до «трущобного натурализма». О карнавализации см.: Там же, с. 153, 224–225. Идея карнавала нашла свое полное развитие в другой работе Бахтина: М. М. Бахтин. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Возрождения. М., 1966.
406
Бахтин. Поэтика…, 201.
407
В. Шкловский. Тетива. О несходстве сходного. М., 1970.
408
Бахтин. Поэтика…, с. 207.
409
«В эту „Мениппову сатиру“ вставлена вторая сатира — „Легенда о Великом инквизиторе“. (…) Наконец, столь же глубокой мениппеей является беседа Ивана Карамазова с чертом (Черт. Кошмар Ивана Федоровича)» (Бахтин, Поэтика…, с. 209).
410
Там же, с. 210.
411
Там же, с. 211.
412
Там же, с. 206 «Нас (…) интересует слова языка, а не его индивидуальное употребление в определенном неповторимом контексте» (Там же, с. 214).
413
V. Astrov. Dostoevskij on Edgar Allan Poe. American Literature, v. XIV (1942).
414
S.G. Marks, Op.cit., p. 77.
415
Emerson. The First Hundreds Years…, p. 96. О «жестоких, на потребу публике готических интригах» Достоевского говорит Кэрил Эмерсон. О жутком готическом смехе, звучавшем за карнавалом, говорил также Баткин. (Л. М. Баткин. Смех Патнагрюэля…).
416
Бахтин. Поэтика…, с. 119.
417
С. Emerson. Zosima’s «Mysterious Visitor»: Again Bakhtin on Dostoevsky, and Dostoevsky on Heaven and Hell». A New Word on Brothers Karamazov. Ed. by R.L.Jackson. Evanston, 2004, p. 173.
418
Бахтин. Поэтика…, с. 263.
419
Там же, с. 286.
420
Там же, с. 293.
421
«Так развивается интрига Голядкина с его двойником, развивается как драматизированный кризис его самосознания, как драматизированная исповедь. За пределы самосознания действие не выходит, так как действующими лицами являются лишь обособившиеся элементы этого самосознания. Действуют три голоса, на которые разложился голос и сознание Голядкина: его „я для себя“, не могущее обойтись без другого и без его признания, его фиктивное „я для другого“ (отражение в другом), то есть второй замещающий голос Голядина, и, наконец, получается своеобразная мистерия или, точнее, моралите, где действуют не целые люди, а борющиеся в них духовные силы, но моралите, лишенное всякого формализма и абстрактности» (Бахтин. Поэтика…, с. 291). Интересно было бы узнать, в чем же состоит мораль этого «моралите»? Правда, где же мораль в этой повести? В том ли она, что герой сходит с ума? Или в том, что он маленький, но подлый человек? Или в том, что государственная служба в императорской России могла любого с ума свести?
422
Там же, с. 292.
423
Несколько слов о тех наблюдениях, которые, как хорошо осознавал сам Бахтин, явно выпадали из логики его анализа, но которые тем не менее крайне важны для понимания «Двойника». Например, как мы уже отмечали, Бахтин чувствовал, что в «Двойнике» нет настоящего литературного действия: «Все действующие лица, кроме Голядкина и его двойника, не принимают никакого реального участия в интриге, которая всецело развертывается в пределах самосознания Голядкина… Рассказывает же повесть о том, как Голядкин хотел обойтись без чужого сознания, без признанности другим, хотел обойти другого и утвердить себя сам, и что из этого вышло. „Двойник“ Достоевский мыслил как исповедь (…) Это первая драматизированная исповедь в творчестве Достоевского» (Там же, с. 288). Но может быть, действие и впрямь не выходит за пределы самосознания Голядкина просто потому, что это и не действие вовсе, а переживание кошмара? Монотонные повторы поэмы тоже не прошли мимо внимания Бахтина, но не получили иного объяснения, кроме неясной аналогии с живописью. «Действительно, рассказ с утомительнейшею точностью регистрирует все мельчайшие движения героя, не скупясь на бесконечные повторения. Рассказчик словно прикован к своему герою, не может отойти от него на должную дистанцию…» (Там же, с. 302).
424
Там же, с. 295.
425
Там же, с. 294.
426
Там же, с. 295.
427
Там же, с. 295.
428
Там же, с. 193. Интерпретации «Бобка», продолжающие Бахтина, см. например: Ilya Vinitsky. Where Bobok Is Buried: The Theosophical Roots of Dostoevskii's «Fantastic Realism», Slavic Review, vol. 65, n. 3, 2006, p. 523–543.
429
«Бобок» опубликован 5 февраля в № 6 «Гражданина» в «Дневнике писателя» 1874 г. «Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать с кем и как говорить». Достоевский продолжает: «На этот раз помещаю „записки одного лица“. Это не я; это совсем другое лицо. Я думаю, более не надо никакого предисловия» (Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. Достоевский, ПСС, 1980, т. 21, с. 41).