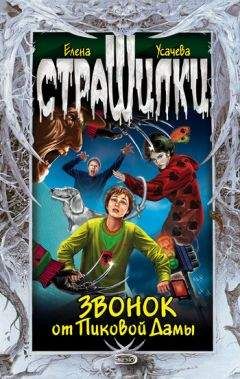ее нежная натура находится под влиянием того, что заполняет ее повседневность, а семейная жизнь у нее такая счастливая… Серьезное же и
мучительное в жизни Императора как государя доходит до нее как бы издалека, словно сквозь какую-то вуаль».
Посланница не задается вопросом: а, возможно, император и хотел дома, где «все мучительное» остается за порогом? Женщины, позволяющей ему быть просто мужем и отцом — человеком?
Вот тут следует вспомнить прощальное письмо Александра I молоденькой Долли, где царь уверял ее, что вовсе не несчастен. Видимо, его попытались утешить, полагая, что он изнывает под бременем власти. Теперь настала очередь другого венценосца.
После разразившегося в Польше восстания, когда графиня Фикельмон будет всей душой сочувствовать инсургентам, она обнаружит у Николая I трагический надлом, едва не раздвоение личности. Под 28 сентября 1831 года в дневнике помещена развернутая запись: «Во время обеда я сидела рядом с императором. Он долго разговаривал со мной. Несколько раз я уловила глубокую грусть в его улыбке и горечь в словах, должно быть невольно, неосознанно, но вырвавшуюся из глубины сердца; в его душе кровавая рана, оставленная польскими событиями, и это так ощутимо!»
Дальше посланница словно заклинает самое себя: «Я отнюдь не сторонница мер, предпринятых Императором. Должна даже заметить, мой независимый дух видит в нем деспота, и как такового я осуждаю его строго, без всякого ослепления. Но это не мешает мне примечать в нем и нечто возвышенное, благородное, исключительно благородное. Уверена, что, если бы этот человек больше доверял своей интуиции и вслушивался в добрые, мудрые советы, его поступки были бы всегда благими, справедливыми и разумными!» То есть в хороших руках государь был бы хорош.
«Но он молод, окружен неподходящими людьми, наделен как монарх абсолютной, деспотической властью, оказывающей развращающее влияние на характер любого самодержца». И где же подруга, способная разделить с государем несчастья? «Его жена хрупкое и грациозное небесное создание… Ее душевных сил хватает только на то, чтобы упиваться счастьем и наслаждениями. Более сильные побуждения оказались бы роковыми для этого красивого воздушного создания… Энергичная женщина, способная воспринимать жизнь во всей ее серьезности рядом с императором, могла бы стать ангелом-хранителем России!» [417]
Поле для ночного визита готово.
Глава четырнадцатая. «Ремесло властелинов»
К счастью для посланницы, наследственная навязчивость мадам Хитрово сдерживалась в ней уздой хорошего тона. Но из дневника видно, что Дарья Федоровна, помимо воли, влюблена в «деспота». Как пелось в известном романсе начала XIX века, посвященном цесаревичу Константину Павловичу: «Я люблю, люблю тирана…» [418]
В воображении дама уже примерила на себя роль «ангела-хранителя». Ведь «энергичная женщина, способная воспринимать жизнь во всей ее серьезности», — это самохарактеристика.
«О, какие значительные и ужасные вещи вижу я в этом ремесле властелинов! — восклицала графиня в начале 1832 года. — Как я счастлива, что не родилась таковой! И все же мне кажется, что я сумела бы глубоко осознать великое предназначение быть на троне. Как расцвела бы моя душа, как благословляла бы я Господа за этот великий, высокий долг… Разве это не безумие, размышлять таким образом?» [419]
Тем не менее она размышляла.
Чуть ранее Долли говорила о «независимости» своего характера. Между тем ее суждения — отголосок парижских газет и австрийской политической позиции: на официальном уровне восстание поляков осуждено, но под рукой достойно сочувствия и даже помощи. Когда в 1848 году вспыхнет мятеж в Венгрии — в тот момент части Австрийской империи, — он подвергнется строгому остракизму графини. Прошли годы, посланница повзрослела? Русская консервативная жизнь наложила отпечаток и на ее взгляды? Или изменились разговоры внутри собственно австрийской элиты?
Из европейцев николаевского времени, пожалуй, только Оноре де Бальзак, написавший колкий разбор книги маркиза де Кюстина о путешествии в Россию, догадывался, что в «северной империи» не архаичная, не «отсталая», а принципиально другая {20} система власти, полностью упирающаяся в личность царя. Ее невозможно понять, исходя из собственно европейских политических координат. Только осудить, оставив предмет рассмотрения за бортом.
«Все, кто в последнее время писали о России, совершали величайшую ошибку, глядя на эту страну через конституционную призму, рассматривая ее сквозь лондонские или парижские очки». Эти авторы «напоминали бы игроков в вист, которые, не зная ничего, кроме виста, метали бы громы и молнии против людей, играющих в преферанс (русская игра) или реверси, и отпускали более или менее остроумные шутки на счет глупого народа, который не понимает всех прелестей благородной игры в вист» [420].
«Дружеский совет»
Любопытно, что и Бальзак соскользнул на карточную терминологию, говоря о политических реалиях. Его вывод: в России играют в другую игру, какими бы европеизированными внешними формами она ни была прикрыта.
Что же это за политическая игра и как ее нащупать людям, давно, во многом искусственно, оторванным от традиции и с детства привыкшим вести партию в европейский вист?
В ноябре 1829 года императора свалила нервная лихорадка. События выглядят темными: ночью Николай I встал, услышав шорох в соседней комнате, вышел, поскользнулся, упал, потерял сознание, несколько часов пролежал на холодном полу и простудился [421]. Конечно, было заподозрено покушение, следов которого не обнаружили.
Сначала болезнь не вызвала особой тревоги: все предполагали, что богатырское здоровье царя быстро справится с хворью. Но силы оставили императора, вскрылась изматывающая лихорадка. «Страх перед несчастьем превосходил его вероятность, — писал Бенкендорф, — все дрожали при мысли потерять государя… Врачи были в величайшей тревоге и не скрыли ее от меня… Наконец, после двенадцати дней страха, надежды и беспокойства» Николай I показал признаки выздоровления, но «выздоровления медленного, с возможными рецидивами… Я был страшно потрясен ужасной переменой, которая произошла в чертах его лица. В них были видны страдание и слабость, он похудел до неузнаваемости» [422]. Император потерял до половины своего веса.
Болезнь сумели утаить — просто государь несколько дней не показывался. Но после, когда опасность миновала и иностранным послам разрешили узнать, что император болен, в европейских кабинетах возник шум [423], крайне благоприятный для Турции: рановато заключили мир. Однако переиграть случившееся было уже невозможно, даже опираясь на слухи о том, что противоборствующая сторона вот-вот лишится царя.
Персы в 1826 году положились на подобные подстрекательства англичан, напали на русские границы в ожидании гражданской войны между шахзаде Николаем и шахзаде Константином и были биты. В письме Ивану Паскевичу Николай I поставил вопрос: «Можно ли войти в Персию и дойти до Аракса?» [424] Однако империя, усилием воли царя, удержалась от уничтожения Тегерана, как и в войне с турками от взятия Константинополя. Такой силы не прощают. Глядя на Россию, европейские политики и писатели боялись не того, что она делает,