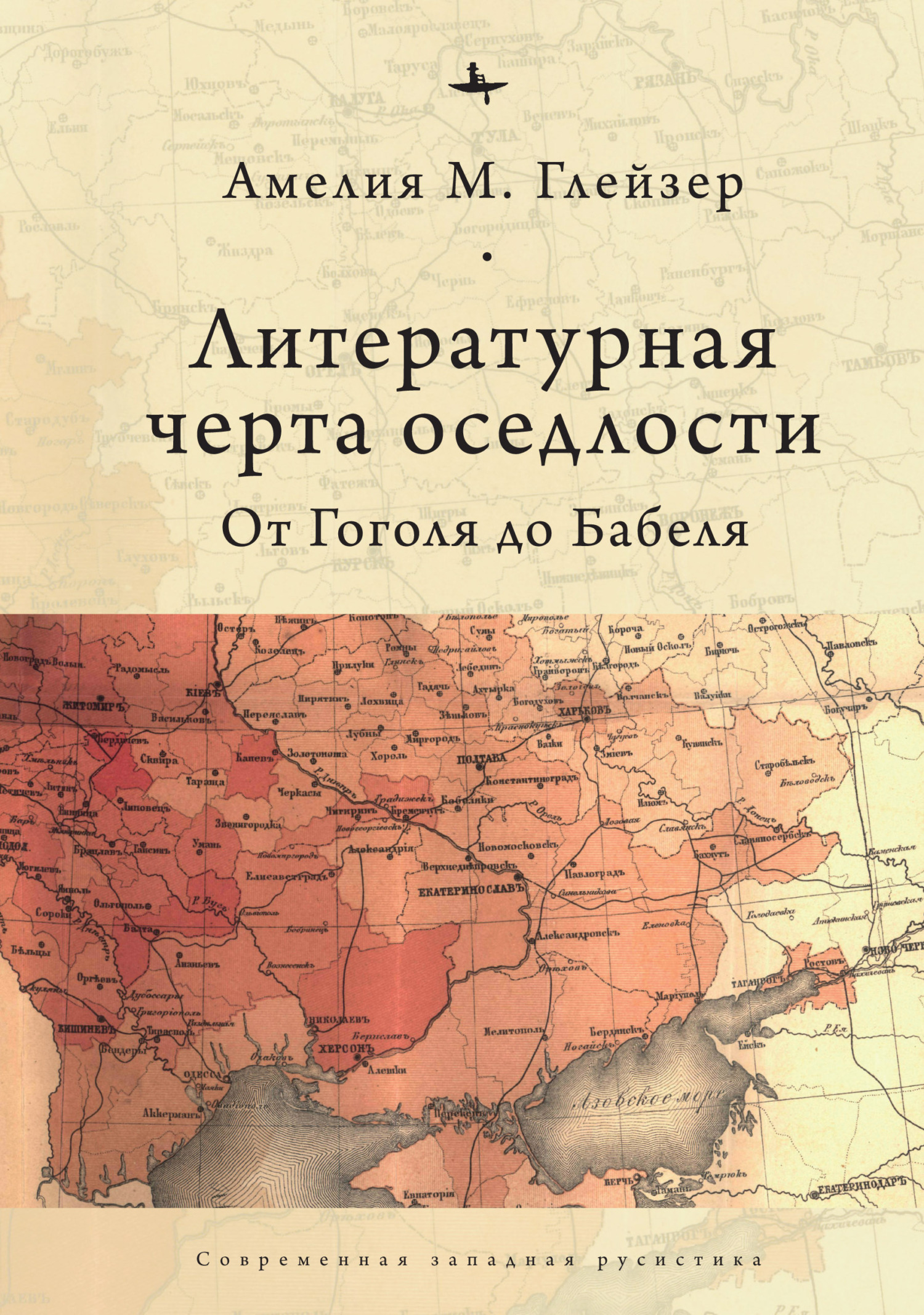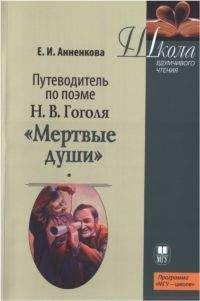том числе Бабеля.
Украинцы, воспринимавшиеся как братский народ, вызывали больше доверия у царского правительства и сочувствия в обществе, чем евреи, которые, как и католики-поляки и мусульмане-турки, являлись не только национальным, но и религиозным меньшинством. Имперская концепция «русскости», основанная на православии и самодержавии, предполагала существование многонациональной России под властью одного Бога и одного властителя [39]. Однако разговор о близости между русскими и украинцами иногда служил для русских литературных критиков оправданием притеснения украинской литературы. Так, Белинский писал: «…должно ли и можно ли писать по-малороссийски? Обыкновенно пишут для публики, а под “публикою” разумеется класс общества, для которого чтение есть род постоянного занятия, есть некоторого рода необходимость» [Белинский 1875,5: 308] [40]. Здесь Белинский говорит как о том, что украинская культура является частью культуры русской, так и о том, что носители украинского языка не относятся к читающей публике, причисляя их, как сказала бы Гаятри Спивак, к угнетенному классу, чьи интересы должны представлять русские общественные институты [41]. Хотя Белинский и другие критики активно выступали против книг на украинском, некоторые украинские писатели не только боролись с таким презрительным отношением со стороны русской литературной общественности, продолжая создавать произведения на своем родном языке, но и искали новых читателей вне той имперской читающей публики, о которой говорил Белинский. Так, Квитка-Основьяненко в буквальном смысле ходил на сельский рынок и читал свои украинские рассказы торговцам вслух [42].
Если украинским писателям приходилось сталкиваться с этнографическим упрощением их фольклорной традиции в русской литературе и притеснением по языковому и культурному принципу, то еврейские писатели противостояли русскому антисемитизму тем, что представляли русско-еврейские отношения под другим углом. Антисемитизм – это культурная и национальная дискриминация евреев, которая в широком смысле может пониматься как ненависть к евреям, основанная на различных претензиях к ним: расовых, культурных, классовых или деловых [43]. Яков Кац рассматривает христианскую юдофобию и расовый антисемитизм в исторической перспективе [Katz 1973]. Концепция Каца очень помогает при анализе места евреев в русской и украинской литературе, потому что еврейские персонажи в ней зачастую представляют собой смесь библейских и расовых стереотипов. До разделов Польши предубеждение против евреев в России по большей части являлось юдофобией: вне зависимости от того, были ли они знакомы с евреями в реальной жизни или нет, православные воспринимали евреев как врагов христианской веры. Государственную и бытовую дискриминацию евреев, последовавшую за разделами Польши, уже можно считать антисемитизмом. Однако, если большинство украинских писателей в XIX веке вступали в контакты с евреями (хотя степень этого знакомства зависела от того, жили ли они в городе, местечке или деревне), нужно иметь в виду, что русский писатель, живший вне черты оседлости, имел мало возможностей столкнуться с евреем [44]. Во второй половине XIX века и иногда в следующем столетии некоторые славянские писатели продолжали использовать в своем творчестве классические юдофобские стереотипы, доминировавшие в европейской культуре еще со Средневековья. Таким образом, хотя некоторые украинские и русские писатели изображали евреев, исходя из своего личного опыта, славянский коммерческий пейзаж XIX века был также полон образов евреев, порожденных новозаветным антагонизмом, согласно которому всякий еврей был если не менялой или Иудой, то комическим персонажем, как правило, связанным с деньгами.
Еврейская литература зачастую боролась именно с этими стереотипами. В отличие от книг на украинском языке, публикации на идише и иврите в Российской империи были разрешены с 1840-х годов и до Октябрьской революции, хотя и подвергались строгой цензуре [45]. Языки, на которых говорили евреи в царской России, имели разные области применения. Евреи в то время владели минимум тремя языками: ивритом, идишем и каким-то одним, а иногда и несколькими местными или международными языками. Бенджамин Харшав называет это «трехъязычием» европейских евреев. Эти языки не были полностью взаимозаменяемы, как, скажем, французский, итальянский и немецкий, на любой из которых вы можете переводить один и тот же текст, если знаете их. Скорее, у каждого языка была своя особая роль: иврит использовался для молитвы, идиш – в быту, а местный язык – для дел, не связанных с еврейскими реалиями; все вместе они образовывали большой многоязычный словарь, который использовался в трех различных дискурсах. Однако нееврейские языки не были равны между собой. Русский, польский и немецкий являлись государственными языками и имели особый статус по сравнению с языками других восточноевропейских народов, которые зачастую были лишены политических прав. Хотя в XIX веке многие евреи, жившие в селах и местечках (особенно женщины, нередко работавшие на рынках рядом с украинскими торговцами), чаще говорили на украинском, а не на русском, еврей из большого города в Восточной Украине с большей вероятностью владел не украинским, а русским языком. В украинской литературе XIX века эти языковые нюансы иногда утрировались: еврейские персонажи, как и гости из России или царские чиновники, часто говорят на русском языке, что маркирует их чужеродность и нарушает плавное течение украинской речи.
За счет упомянутого выше трехъязычия еврейские писатели могли варьировать языки, обращаясь к той или иной аудитории. Литература на идише в XIX веке расцвела не только благодаря своим художественным достоинствам, но и потому, что служила средством распространения идей еврейского просвещения и модернизации в еврейской читательской среде. Именно еврейский журнал «Фолксблат», издаваемый Александром Цедербаумом, вдохновил в 1883 году Шолом-Алейхема, чьи рассказы и повести на русском и иврите не пользовались спросом у издателей, начать писать тексты на родном языке. Возможно, некоторыми еврейскими писателями переход на идиш воспринимался как шаг назад, зато они получили доступ к аудитории, которая была бы для них потеряна, продолжай они писать на иврите [46]. Хотя литература на иврите в идеологическом плане была во многом более развита, чем литература на идише, идиш, будучи языком торговли, был идеален для описания коммерческого пейзажа. Именно коммерческий пейзаж, ставший центральной темой зарождающейся литературы на идише, позволил писателям обратиться к новому кругу читателей: для того чтобы в жизни евреев действительно произошли перемены, лучшие образцы современной еврейской художественной литературы необходимо было адресовать мужчинам и женщинам, в быту, учебе и торговле использовавшим идиш [47].
Иврит был в то время языком еврейской интеллигенции: для ее представителей переход на идиш был сродни гоголевскому обращению к форме сказа. Они считали, что опускаются до уровня непросвещенного, хотя и умеющего читать большинства, говорящего на идише. Однако если русские писатели, следовавшие культурным трендам начала XIX века, были увлечены экзотическим (и, как они полагали, лишенным письменности) украинским фольклором, то еврейские писатели второй половины столетия испытывали более сложные чувства к еврейской